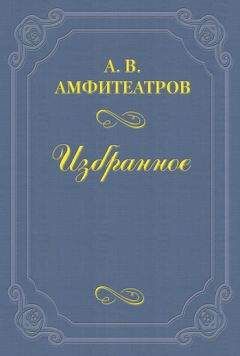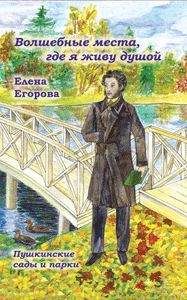Александр Валентинович Амфитеатров
Пушкинские осколочки
Единственный знакомый мне здесь, в Италии, японец говорит и пишет по русски не хуже многих кровных русских. Человек высоко образованный, по профессии, как подобает японцу в Европе, инженер-наблюдатель, а по натуре, тоже как европеизированному японцу полагается, эстет. Большой любитель, даже знаток русской литературы и восторженный обожатель Пушкина. Превозносить «Солнце русской поэзии» едва ли не выше всех поэтических солнц, когда либо где либо светивших миру. Способен беседовать о Пушкине часами и безошибочно читает наизусть его стихи страницы за страницами. При этом, – давно заметил я, – питает особенное пристрастие не к знаменитым пьесам и строфам, которыя обычно у всех на в памяти и на устах, как неизбежная рекомендация и поэтический паспорт Пушкина; но цитирует, по преимуществу, мало известные отрывки, черновые наброски, неоконченныя стихотворения, – вообще, какое-нибудь такое мелкое «незаконченное», что и не во всяком полном собрании сочинений Пушкина найдется; а уж издатели так называемых «избранных произведений» почти всегда подобными «пустяками» пренебрегают.
– И очень неразумно поступают, – говорит японец, – это все равно, что, найдя на улице драгоценный алмаз, оставит его валяться в пыли, потому что он не похож на шлифованные и граненые брильянты, которые вы видели в театре или на балу в колье модной красавицы. Пушкина нельзя делить на «великаго Пушкина» и «Пушкина маленькаго». Он всегда, везде, во всем велик и многозначителен. Помните? —
Ты любишь с высоты
Скрываться в тень долины малой.
Ты любишь гром небес, и также внемлешь ты
Журчанью пчел над розой алой…
В Пушкине вот именно такое мировое звуко-слитие от грома в небесах до журчанья пчел над алой розой, – и везде он одинаково прекрасен. Все внял: и неба содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье. Знаете, конечно, знаменитый дифирамб Пушкину поэта Полонскаго?
– Мало, что знаю: некогда имел удовольствие собственными ушами слышать, как Полонский читал его на знаменитом торжественном заседании Общества Любителей Российской Словесности при открытии московскаго памятника Пушкину. Читал, хотя на костылях, но с великим пафосом – «голосом влюбленнаго тигра», как потом безжалостно сострил Михайловский. Старый поэт имел огромный успех – и заслуженный, потому что искренне до слез, и впрямь влюбленно волновался радостью пушкинскаго апофеоза. Но стихи то, по правде сказать, всетаки неважные. Как почти всегда у Полонскаго, смесь энтузиазма с опасением, что «не поймут», а, отсюда, в разсудочном стремлении растолковать, вторжение рифмованной прозы.
– Да, бывают и лучшие стихи, но идея всеобъемности Пушкина Полонским выражена верно, точно и широко. Он понял поэтическую вездесущность Пушкина, дает в простодушном житейском перечне осязать ту его вселенность, которую так величественно и законоположно «огромными словами», установил Достоевский. Пушкин – как Дух Божий: веет, где хочет. И чего коснулось его веяние, возвышается в совершенство. Вы, вот, удивляетесь моему пристрастию к неоконченным стихотворениям Пушкина. А, по моему, неоконченных произведений у Пушкина нет.
– Как? А «Русалка»? а «Галуб»? а «Египетския ночи»? а «Арап Петра Великаго»? Да и, пожалуй, даже «Евгений Онегин», наконец?
– Это произведения, мнимо неоконченныя.
– То есть?
– Лишь формально прерванныя смертью поэта или житейскими препятствиями, сильнейшими его воли. Внешне приостановленное нельзя считать неоконченным. Во всем, что вы назвали, отсутствие конца – случайность, независимая от поэта. А совершенство этих пьес, поскольку оне до нас дошли, свидетельствует как раз обратное: что оне были Пушкиным выношены до полной законченности, так что им недоставало только механическаго процесса – перелива вдохновения из головы и сердца – рукою – на бумагу.
А каково совершенство якобы «неоконченнаго», лучше всего показуется неудачами всех позднейших опытов его «докончить». Их, ведь, было множество, и брались за них не только самонадеянные дилетанты – рифмоплеты, мечтавшие, будто, легко и звонко владея стихом, можно «продолжать» Пушкина, и не грубые практики-фальсификаторы, еще наивнее воображавшие, будто Пушкина можно подделать. Нет, брались за них и настоящие, большие поэты. Майков развил в длинную балладу пушкинское четверостишие:
В голубом эфира поле
Блещет месяц золотой;
Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой.
Валерий Брюсов докончил «Египетския ночи». Оба поэта – умные, богато одаренные вкусом, воображением, не говоря уже о высоком мастерстве стиха. И, конечно, оба сознавали, что, пытаясь продолжать Пушкина, они, собственно говоря, борются с Пушкиным, а потому оба старались отличиться в своем искусстве, как можно лучше. И, всетаки, что же? У обоих – полное фиаско. Оба – словно бы присадили на живое лицо мертвый нос.
– Да, Брюсов очень стремился достигнуть Пушкина и чувствительно страдал безсилием своего к нему взлета. Помню, как мне понравилась первая глава «Алтаря Победы», ловко стилизованная Брюсовым под Тацита. Я тогда поздравил его с удачей: это, мол, вышло у вас почти так же хорошо, как пушкинский набросок «Цезарь путешествовал». Брюсов ответил мне такою восторженною благодарностью, что даже смутил. Но, к сожалению, силы на пушкинскую стилизацию достало ему лишь для первых страниц: дальше пошла условная поддельщина – трафарет под музейные «антики»…
– Таков всегдашний конец напрасных состязаний с Пушкиным, – подтвердил японец. – Возьмите хотя бы этот отрывок «Цезарь путешествовал». Всего какия-нибудь двадцать – тридцать строк, едва приступ к огромной исторической программе, а разве можно считать его «неоконченным»? Античный мир уже глядит из него во все глаза, античная форма уже предопределена, установлена и развивается. Если это неоконченность, то разве – неоконченность Ватиканскаго торса, который Микель Анджело считал самым совершенным достижением скульптуры. Недоконченность парижскаго собора Нотр-Дам, на которую не поднялись кощунственныя руки архитекторов позднейших веков: ведь, еще недавно американские миллиардеры предлагали кредиты на достройку, но французам достало ума и вкуса, чтобы отказаться наотрез. Докончить «Египетския ночи»? Легко сказать! Сколько ваятелей пытались угадать, как безрукая Венера Милосская держала руки, когда их имела, но каждый опыт снабдить ее «протезами» лишь нарушал гармонию несравненнаго кумира, и, значит, опошлял совершенство божественной красоты несовершенством условной житейской красивости.
«Незаконченность» – термин, пригодный только для тех произведений искусства, в которых творец не совладал с художественным заданием и отступил от него по безсилию довести предпринятый труд до того цельнаго слияния мыслей с образами, что мы зовем красотою. А разве это когда-нибудь бывало у Пушкина? В его словесной живописи каждый мазок, в его скульптуре каждый удар резца и молота – уже цельность. Не огромности «Русалки», «Галуба», «Египетских ночей» и т. п. имею в виду: об их художественной написаны, пишутся и еще долго, может быть, вечно будут писаться томы. Говорю об излюбленных моих «осколочках», об этих кусочках разсыпанных пушкинских мозаик, из которых, однако каждый, уже сам по себе, высокохудожественная цельность, запечатленная «гением чистой красоты».
Надо мной в лазури ясной
Светит звездочка одна:
Справа запад темнокрасный,
Слева бледная луна.
Разве не прекрасно?
– Замечательно красиво, но… что же дальше?
– Ничего дальше? Зачем вам дальше?
– Самодовлеющий пейзаж?
– Почему же самодовлеющий пейзаж? Он для вас, читателя или слушателя, написан. Это вас поэт ставит под одинокою звездочкою в ясной лазури, между темнокрасным западом и бледною луною. Он дал вам четырьмя стихами поразительно красивый музыкальный аккорд и наметил мелодию – вступление к ноктюрну, а создать его своей мечтой – дело уже вашего впечатления и настроения. Каждый читатель и слушатель поэта должен быть, вместе с ним, сам поэтом. Если поэзия не отражается в душе внимающаго посильным ему лиризмом, то на что же она годится?
Таково, по крайней мере, наше ниппонское, азиатское разсуждение. Вы, русские, слишком глубоко ушли от Азии в Европу и слишком избалованы богатством и щедростью своей европеизированной литературы. Чтобы вызвать в себе настроение, вам мало непосредственнаго впечатления, вы требуете от своих художников еще философскаго толкования, психологическаго анализа, с логическим моральным выводом. Вы ленивы на воображение и заставляете за себя работать им авторов. А мы, Азия, сильны мечтою, любим мечту, а потому нам от поэта довольно образов, которых впечатления дарят нас мечтами, вводят в настроение, дают воображению способность поплыть, – подобно ладье, оттолкнувшейся от пристани, – каждому в свое море, под своими парусами. А «что дальше» – это уже вопрос нашей чувствительности, опять таки каждой у каждаго.