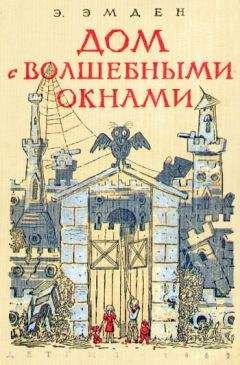Есть в Ленинграде, в самом центре — переулок, затерявшийся среди людных проспектов и ярко освещенных улиц, наполненных трамвайным грохотом и сутолокой толпы.
Сюда едва долетают вечерние голоса большого города. Сюда редко заглядывает автомобиль, ослепительными глазищами ощупывая дорогу. Здесь нет городской суеты. Еще сохранились кое-где здесь досчатые заборы, сад, неказистый облупившийся от времени особнячок — такой «уездный» и несовременный, зажатый между каменными громадами доходных домов.
Кажется, здесь не диво услышать в погожий день крик петуха и хлопанье крыл на дворе, а летом между выщербленными булыжниками здешней мостовой пробиваются там и сям усики травы… Чем не «богоспасаемая» провинция?!.
Вот этот, например, двухэтажный грязно-желтый домик с мутными подслеповатыми окнами, где на крайнем еще сохранилось прикрепленное изнутри под углом потайное зеркальце… Заглянуть в него — вся улица видна: кто прошел, кто пришел, кто в ворота стучится…
А ворота — деревянные, крепкие, на засовах да на запорах. И тянется от них забор серый, глухой, высокий, в полтора человеческих роста, — через такую ограду не заглянешь, не перескочишь…
Кто живет, кто спасается здесь в этом скромном странном доме, обозначенном номером — 8/10 — по Ковенскому переулку?
Шли годы, бурные и великие годы Октября. Рушились фронты и предрассудки, рождались новые мысли и новые люди, жизнь с каждым годом расцветала вокруг иными яркими красками — изменчивая, многоликая, вечно рвущаяся вперед…
Но все так же наглухо заперты были ворота особняка на Ковенском переулке. Так же неохотно, лишь на звонок, не сразу и с опаской отпиралась угрюмая калитка. Так же рьяно сторожил какие-то тайны хозяйские лохматый дворовый пес, волоча за собой длинную лязгающую цепь, давясь и захлебываясь злобным кашлем.
Мимо, мимо шли годы и люди, — и все эти годы какая-то своя, отдельная, особая жизнь текла в старом особняке.
Дом № 8/10 никого, собственно, не интересовал. В четырех квартирах его жили: благообразная старушка Елизавета Яковлевна Тупикова да еще душ двадцать разного люда — какие-то «христовы невесты», несколько молодых девушек, сторож из районного отделения милиции, кустарь, выделывающий кофе-суррогат, вокзальный носильщик с семьей — ну, словом, люди ничем не примечательные.
«Корабль изуверов» — дом на Ковенском переулке в Ленинграде.
Захаживали иногда в тот дом и гости со стороны — разнообразная публика: какие-то старики с дряблыми безбородыми лицами, работницы в платочках, молодежь… Посетители оставались в доме № 8/10 довольно продолжительное время — как полагается гостям, пришедшим на вечеринку или на именины. Подобные семейные оказии случались обычно под праздник или в воскресенье. Собака в этих случаях почему то не лаяла, а гостей предупредительно поджидали у калитки:
— Дух свят!
— Кто там?
— Белый голубь.
— Просим милости, любезный сын Саваофа.
Но если бы кто-либо посторонний и услышал этот пароль и заметил бы странные совпадения, он все-же не узнал бы и никогда не догадался бы, что происходило в такие «званые вечера» в дальних горницах Лизаветы Тупиковой.
И только теперь, когда тайна особняка на Ковенском переулке раскрыта вся до конца, когда уже не живут в этом доме былые его хозяева и обитатели, настежь распахнута калитка и пуста собачья конура на дворе, — лишь теперь мы знаем, что за гости и зачем собирались у старухи Тупиковой и какие «праздники» праздновала там, отгородившись от мира и времени, эта кучка загадочных людей.
Дом на Ковенском. Тянется от ворот дома забор серый, глухой, высокий…
Только теперь мы, по догадкам и признаниям, можем нарисовать себе картину того, что творилось втечение всех последних лет за высокой стеной глухого грязно-желтого дома.
* * *
Мечется, пригибаясь от вихря, замирает в оплывах пламя свечей…
Комнаты кажутся дурным сном, навождением: люди, десятки людей в белых до полу рубахах заполнили их. В руке у каждого платочек — у кого белый, у кого в горошинку… И в желтом свете еще желтее восковые маски безжизненных, искаженных восторгом и благочестием, лиц.
Вдруг все пришло в движение… Странный танец кружит по горницам скачущие фигуры. По стенам кривляются-прыгают исступленные тени… Пустыми глазами глядят на этот чудовищный хоровод угрюмые потемневшие портреты, отсвечивающие тусклым старинным маслом.
Поют… Высоко заливается какой-то женский пронзительный голос, десятки ног отбивают такт:
Он — наш батюшка-спаситель,
Истинный родитель…
Все быстрее, быстрее… Точно шумные паруса, вздуваются в диком кружении длинные саваны одежд, в руках плещутся белые платочки, словно крылатая голубиная стая… быстрей быстрей!..
В дружном топоте теряются выкрики слов:
— Ой дух!.. Ой дух!.. Царь-бог!.. То-то радость, бог-дух!..
Иные еще кружатся — по одиночке или кучками, точно выполняя движения какой-то сумасшедшей кадрили, иные уже в изнеможении опустились на скамью. В расширенных пьяных глазах — восторг изувера и ожидание немедленного чуда…
И вдруг — то здесь, то там вырываются властные громкие голоса:
— Слушайте, братья!.. Дух глаголет, дух!..
Все стихает… Жадным слухом ловят люди обрывки исступленно-напевной речи:
— Что вам, праведные, горевать!..
Если бог за нас — кто же против нас?..
Неугодное богу правительство
Долго на земле не продлится:
Раз они не к богу,
То закроет им бог дорогу —
И восстановит мудрого правителя!..
Воссядет он со славою,
С небесной державою…
Вздохи и слезы, голубиным воркованием проносятся по горнице…
А уже с другого конца криком кликушечьим расплескался и поплыл над толпой истерический женский голос:
— Молитесь, праведные, будьте в страхе и будьте в вере,
Чтобы не сломал антихрист ваши душевные двери…
У милосердного батюшки-искупителя сила велика:
Он — царь, царствующий над всеми властями земными,
Он — великий и славный воин,
Истребляющий адский корень…
Скоро, скоро царская корона над Рассеюшкой зазолотится!..
А савецку власть,
Как с панели грязь,
Бог пошлет метлу, да и выметет…
* * *
И снова вечер. Темный февральский вечер 1928 года.
Тихий говорок шелестит по комнатам тупиковского особнячка…
Кого ждут сегодня эти странные люди в саванах?
— Слыхали, сестрицы?.. Гостя высокого бог послал… Давненько не виделись!..
— Приехал батюшка, с самой Москвы приехал.
— А где-ж он?
— Ждут, кажную минутку прибыть должон… Вчерась за город выезжали, на Сиверскую — еще не вернулся.
— То-то будет нынче веселье духу: хороша жатва у господа-батюшки…
— Идет, идет!..
Пожилой человек с неподвижным безусым лицом проходит среди расступающейся толпы…
Пронзительно-спокойны его глубоко-запавшие глаза, чуть выдается вперед — жестоко и хищно — нижняя челюсть, и узкогубый, ниточкой, рот улыбается мертвой благостной гримасой…
В дальней комнате он встречается с человеком, приветствующим его почтительно, с каким-то невысказанным вопросом на устах.
— Здравствуй, здравствуй, голубь!.. Что? Сын?.. Сашенька!?. — вспоминает гость, и судорога сводит жестокой складкой его левую щеку. — Сподобился сын твой, сподобился… На белого воссел коня!..
— Ч-что… вы… сделали?..
Человек со стоном падает на колени и закрывает лицо.
— О чем сожалеешь, неразумный? Не плачь, не кричи! Крестись и радуйся, ликовать надобно!.. — с надменной плохо-скрытой досадой склоняется над ним гость.
Человек на коленях крестится и рыдает еще судорожнее и беззвучнее.
К ним приближается Лизавета Тупикова, какие-то старики с приторно-блаженными лицами, несколько молодых людей и девушек:
— Милости просим, гость дорогой!..
Гость оборачивается, и в пронзительных глазах его — жестокая мрачная радость. Не то окружающим, не то самому себе досказывает он какую-то свою медлительную и гордую мысль:
— Предопределено мне надеть двадцать белых риз — и вот восемнадцать надето, господи, во имя твое!..
* * *
Отгорает лето тысяча девятьсот двадцать девятого…
Августовский вечер уже незаметно перешел в темную полночь.
В переулке — тишина. Скупо светятся окна тупиковского особняка. Зарывшись в солому, повизгивает и скулит во сне цепной пес в своей будке. Ворота — на запоре.