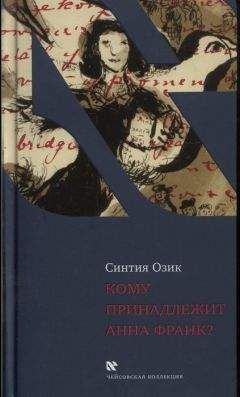Синтия Озик
КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ АННА ФРАНК?
Эссе
Права истории и права воображения
Пер. В. Пророковой
Впервые мир осознал природу и масштаб зверств, которые полвека назад немцы чинили над евреями, не через слова. О последних и самых кошмарных из этих зверств нельзя было прочитать в газетах — отчеты о происходившем были под запретом, но на раннем этапе некоторые из бесчинств можно было мельком увидеть в кинохронике: столпы пламени и дыма, вырывавшиеся из крыш синагог 9 ноября 1938 года[1], костры из горящих книг на городских площадях, сияющие лица юнцов, швырявших в огонь творения человеческого разума. Удобно устроившись в американском кинозале, можно было увидеть все это собственными глазами, как можно — пленка создает иллюзию сопричастности — увидеть те же сцены и сегодня.
Горящие синагоги и горящие книги — это олицетворение времени, когда почти во всей Европе началась травля беззащитных евреев. Есть и другие, столь же врезающиеся в память образы: фото мальчугана в кепке, сбившейся набок, — он в ужасе вскидывает вверх руки (когда глядишь на эти отчаянные глаза, на худенькие локоточки, аккуратную кепочку, неизбежно начинаешь верить в существование абсолютного зла); или — в конце войны адская махина английского бульдозера сгребает человеческие скелеты в ров. В фильме бульдозер вслепую подает вперед, гребет, разворачивается, снова гребет. Камера приглашает нас на эту голгофу снова и снова — столько раз, сколько у нас хватит духу смотреть. Приходится предположить, что некоторые из этих картинок так часто встречаются, что примелькались, превратились в клише и даже самые сострадающие сострадать уже не могут. Мне всякий раз вспоминается высказывание одного известного писателя: «От тех давнишних событий, — писал он, — все в тебе переворачивается, а потом жаждешь подвергнуть все это осмеянию».
Есть еще одна картинка, не столь известная, как горящие синагоги, мальчик или бульдозер; ее жестокость еще очевиднее — потому что сама ее жестокость неочевидна. И если сатира — пародия на норму, тогда, пожалуй, эта сценка — шарж, который заинтересует и самого пресытившегося наблюдателя. Городская улица, чистая, современная, с раскидистыми деревьями и пышными кустами, в ясный осенний день. С дороги убрали все машины — расчистили место для шествия. Идут одни мужчины, отцы семейств, кормильцы, все из среднего класса — бюргеры в длинных пальто и серых шляпах тридцатых годов; вид у всех достойный, только лица хмурые. Вдоль дороги за импровизированными загородками радостная толпа горожан — все выглядят столь же респектабельно, как сами шествующие, все хорошо одеты, мужчины, женщины, дети, но в основном женщины и дети — время, отметим, рабочее, когда отцы семейств и кормильцы обычно сидят по конторам. Погода чудесная, люди симпатичные, женщины смеются, шествующие печальны; то тут, то там какой-нибудь ребенок осмеливается выбежать за загородку. Шествующие — евреи, их уводят согласно плану, который приведет к их уничтожению; сопровождают их вооруженные солдаты. Наверное, наблюдающие еще не знают, куда отправляют эту колонну, но что за развлечение, что за радость видеть этих достойных граждан, превращенных под дулом винтовок чуть ли не в клоунов на арене цирка.
От этих картинок бросает в дрожь, но мы должны быть благодарны немецкому объективу, их запечатлевшему. Немецкий объектив запечатлел правдиво; изображения четкие и достоверные: камера и действо связаны накрепко. Фотография хотя и может быть сродни подделке (взять хотя бы вопиющую тенденциозность многих современных «документальных фильмов»), в те времена камера не лгала. Она предоставляла — и сохраняла — отчет предельно ясный и неизменно честный. А позднее, когда начали поступать первые сообщения об актах насилия, мы понимали, что они столь же четкие и достоверные, как фотоснимки. Безупречно честный голос Эли Визеля[2], безупречно честный голос Примо Леви; запинающиеся голоса свидетелей, у которых нет ни славы, ни голоса, но речь их звучит, превозмогая заикание и боль от прошлых страданий. Голоса христианской совести и раскаяния. Все эти слова были следствием происходившего — в отличие от снимков. Снимки отражали момент; они хоть и могли помочь памяти, но не были собственно памятью. Снимки нельзя было оспаривать. Нельзя было изменить то, что они сурово и окончательно зафиксировали. А слова лились потоками, множились, становились все разнообразнее и отдаленнее, поэтому некоторые из них вырывались за ворота памяти на куда более свободные поля притчи, мифа, аналогии, символа, рассказа. И если память неуклонно отдавала дань истории, рассказ обращался к другим музам. Там, где память была сурова, вымысел мог быть кротким и порой неточным. Память билась за строгость исторической точности, а литература обращалась к истории, чтобы использовать ее в качестве стимула и раздражителя.
В этом-то и загвоздка: у воображения и истории разные цели. Современные ученые относятся к историографии с огромным сомнением; историю они считают глиной, которую лепит историк; всеведение вызывает подозрение, равно как объективность и старомодные претензии на историческую достоверность; причины Пелопоннесской войны порой таковы, каковыми считаю их я, а порой — каковыми считаешь их ты. Но даже под сломанным зонтиком современного релятивизма история пока что не оборотилась басней. Ученые могут спорить о том, что происходило, но они согласны относительно того, что действительно произошло. Твой Наполеон, возможно, не мой Наполеон, но факт существования Наполеона не подлежит сомнению. До определенной степени история — должник реальности.
Воображение — литература — свободнее этого; оно вообще свободно. Литературе разрешено делать все, что ей заблагорассудится. Литература — это свобода во всей ее полноте. Она может, если пожелает, — на манер «Янки при дворе короля Артура» или Мела Брукса, оказавшегося в эпохе Французской революции[3], — поставить Наполеона во главе войска Спарты. Она может менять историю, она может выдумывать историю, которой никогда не было, — если остается хоть намек на правдоподобие. Литературный герой представляет только самого себя. Можно быть знакомым с кем-то, «похожим» на Эмму Бовари или Анну Каренину, но если вам нужна подлинная и единственная Бовари, нужно обратиться к Флоберу, а если нужна подлинная и единственная Анна Каренина, нужно обратиться к Толстому. Бовари — не воплощение всех французских женщин, она выдумана Флобером. Каренина — не воплощение всех русских женщин, она выдумана Толстым. Воображение ничего не должно тому, что мы называем действительностью; оно ничего не должно истории. Выражение «исторический роман» — во многом оксюморон. История основывается на документах и архивах. История — это то, что мы извлекаем из памяти. Литература избегает библиотек и обожает ложь.
Права литературы — это не права истории.
Тогда какие у меня основания презирать рассказ, который ниспровергает документы и архивы? Какие основания возмущаться тем, что роман фальсифицирует память? Если литература упраздняет факт, это — прерогатива воображения. И если память со всей страстью следует истории, почему это должно умалять права литературы? Почему придуманные люди из романов должны соответствовать истории или подтверждать ее? Литературные персонажи — не иллюстрации, не изображение существующего. Они созданы свободным воображением; они не имеют ничего общего ни с живыми, ни с мертвыми; у них свой путь.
На этом тема закрывается — или должна была бы закрыться. Предмета спора нет. Но есть, правда, определенные трудности. Литература подразумевает перевоплощение: каждый писатель входит в личность своего персонажа; сочинитель притворяется, играет роль, примеривает на себя чужой образ. Писатели по сути своей — профессиональные самозванцы; они становятся теми, кого придумывают. Когда самозванство ограничивается рамками произведения, мы называем это искусством. Но когда перевоплощение выходит за рамки произведения и захватывает жизнь, мы называем это надувательством или даже мошенничеством. Три недавних примера привлекли внимание публики: все спровоцировали споры и дискуссии.
В 1995 году Алан Дершовиц, известный и участием в защите О. Дж. Симпсона[4], и книгами о проблемах самосознания евреев, опубликовал рецензию на «Руку, что подписывала документы», австралийский роман на украинскую тему. Дершовиц, возмущенный как сюжетом, так и содержанием, обвинил двадцатичетырехлетнюю писательницу Хелен Демиденко в «донельзя примитивном проявлении классического украинского антисемитизма: все евреи — коммунисты, мошенники, грязные животные и недочеловеки». В романе, по пересказу Дершовица, красные комиссары (все евреи) приезжают в тридцатых годах на Украину и сжигают дом со всеми его обитателями; разумеется, выживший ребенок становится так называемым Иваном Грозным Треблинки[5]. Еврейка из Ленинграда, продолжает пересказ Дершовиц, «отказывается лечить больного украинского ребенка и заявляет: „Я врач, а не ветеринар“». Демиденко, считает он, ставит «коварную цель»: «объяснить участие украинцев в Холокосте так, чтобы убийцы остались безнаказанными», а ее «гнев направлен прежде всего на выживших евреев, которые хотели передать своих украинских мучителей в руки правосудия».