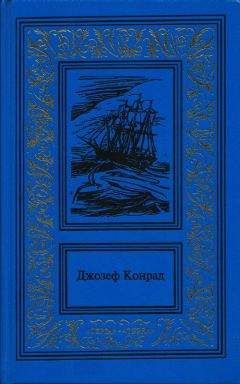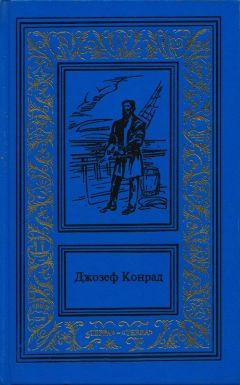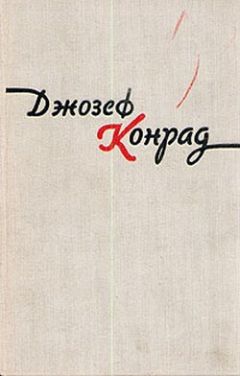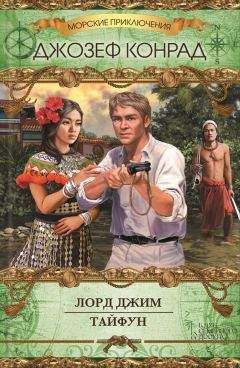Тимофей Прокопов, Джозеф Конрад
Жизнь и приключения капитана Конрада
Когда я слышу, как меня называют «первым повествователем эпохи», я закутываю себе голову. Глупости! Им был не я, им был Джозеф Конрад, что следовало бы знать.
Томас Манн
Жарким тропическим летом 1893 года в австралийском порту Аделаида стало на якорь торговое парусное судно «Торренс», совершившее изнурительное многомесячное плавание в штормовых морях и океанах. Это был корабль тридцатипятилетнего штурмана с капитанским дипломом Джозефа Конрада. Ему надлежало после разгрузки и недолгого отдыха запастись продовольствием, принять на борт новый груз, после чего поднять паруса и отправиться в опасное плавание на другой край света. Среди обычной портовой суеты и хлопот по отплытию осталось никем не замеченным происшествие, которое изменило всю дальнейшую судьбу моряка Джозефа Конрада.
А случилось всего-навсего то, что на борт его судна поднялся в качестве пассажира-путешественника молодой юрист, выпускник респектабельного Оксфорда, специализировавшийся по мореходному праву. Его звали Джон Голсуорси. Здесь состоялось знакомство двух еще никому не ведомых замечательных людей, которым пока только предстояло — но в ближайшее же десятилетие! — прославить свои имена, навеки занеся их в золотые скрижали мировой литературы.
Молодой юрист и немолодой капитан дальнего плавания познакомились в первый же день. «Он руководил погрузкой, — вспоминал Голсуорси. — На палящем солнце лицо его казалось очень темным — загорелое лицо с острой каштановой бородкой, почти черные волосы и темно-карие глаза под складками тяжелых век. Он был худ, но широк в плечах, невысокого роста, чуть сутулый, с очень сильным иностранным акцентом. Странно было видеть его на английском корабле. Я пробыл с ним в море пятьдесят шесть дней. На парусном судне самые большие тяготы ложатся на помощника капитана. Чуть ли не всю первую ночь он тушил пожар в трюме…»
В этом почти двухмесячном плавании, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, они сблизились настолько, что поделились друг с другом самым сокровенным. Оказалось, оба втайне сочинительствуют. У Конрада, помимо нескольких рассказов, вчерне был готов даже роман — «Каприз Олмэйра». Он показал рукопись Джону Голсуорси. А на другой день моряк услышал от обычно сдержанного, чопорного англичанина столько лестных слов, что был этим совершенно обескуражен. Но еще больше был он поражен тем, что тот решительно потребовал бросить наконец «шляться по морям и портам» и немедленно писать, писать, писать.
Сейчас нам трудно с полной определенностью заявлять, что только одна эта счастливая встреча и завязавшаяся дружба повлияли на решение капитана оставить морскую службу и посвятить себя безраздельно литературному творчеству. Наверное, к такой резкой перемене в судьбе он внутренне готовился давно, а Джон Голсуорси только поднес спичку к уже сложенному костру.
Первый роман Джозефа Конрада, так понравившийся молодому путешественнику, будущему классику английской литературы, увидел свет в 1895 году. К этому времени капитан, едва не погибший в одном из своих бесчисленных плаваний от тропической лихорадки (об этом трагическом переходе — его роман «Теневая черта»), оставил-таки морскую службу и целиком посвятил себя литературе. «С шестнадцати до тридцати шести — это еще нельзя назвать целой жизнью, — итожил писатель впоследствии свой пройденный «морской» путь, — но все же это полоса такой протяженности, которая умещает опыт, исподволь научающий человека видеть и чувствовать, и когда, пройдя эту полосу, вступил на иную стезю, я сказал себе: «Теперь я должен поведать о том, что видел, или же остаться в безвестности до конца своих дней».
«Остаться в безвестности» — скромный удел большинства, но не тех немногих, в душах которых едва ли не с младенчества пылает огонь вечно тревожащего вдохновения, неуемного честолюбивого желания совершить нечто выдающееся, крайне важное для людей и этим навсегда остаться в их благодарной памяти. Джозеф Конрад, как мы видим, с полной ясностью сознавал, что он именно из этой малой, но избранной когорты Гераклов, жаждущих подвига. Осознание своей избранности поставило перед ним ясные цели и воодушевило на их осуществление. Отныне кредо его жизни таково: «Я должен поведать о том, что видел».
* * *
Польский мальчик Иозеф Конрад Налех Коженевский море впервые увидел в Одессе в 1866 году, когда ему еще не было и девяти лет (сюда его привез дядя, Тадеуш Бобровский). А родился будущий моряк и писатель 6 декабря 1857 года в Бердичеве, в том самом, в котором за семь лет до того венчался приехавший погостить в Россию Бальзак.
Трагична судьба семьи Конрада. Его отец обедневший, но гордый шляхтич Аполло Коженевский был одаренным поэтом и переводчиком. Он учился на восточном отделении Петербургского университета и вначале ничто не омрачало его жизни. Но вот он вовлекается в политику, становится, как вспоминает Л.Ф. Пантелеев, «одним из вожаков партии действия», готовившей Варшавское восстание. Дело кончилось тем, что в 1861 году Аполло был арестован и вместе с семьей — женой и сыном — выслан в «подмосковную Сибирь» — Вологду. Ссылка погубила и Аполло, и его жену Эвелину, не обладавших крепким здоровьем: оба они спустя несколько лет уходят из жизни.
Из детских воспоминаний Конрада ярче всего запечатлелось то самоотвержение, с каким умирающий во Львове отец занимался переводами Шекспира и Гюго, по временам вслух читая их сыну. Но более всего запомнилось ему сожжение рукописей, произведенное отцом недели за две до кончины. «В тот вечер, — рассказывал впоследствии Конрад, — я случайно заглянул в его комнату раньше обычного и, не замеченный никем, смотрел, как сиделка подбрасывала бумаги в горящий камин. Отец сидел и глубоком кресле, обложенный подушками. Это в последний раз я видел его вставшим с постели. Вид у него, мне показалось, был не столько тяжелого больного, сколько смертельно уставшего поверженного человека. Вся процедура глубоко подействовала на меня как поражение. Не перед лицом смерти, конечно. Для человека столь сильных убеждений смерть не могла быть достойным соперником».
Осиротевшего в двенадцать лет отрока взял в свою семью брат матери Тадеуш Бобровский.
Из отроческой поры Конраду еще запомнилось, как он в тринадцать лет пишет школьную работу на двух страничках по географии Арктики, которой какое-то время был пылко увлечен. И хоть похвального балла пансионер тогда не получил, но его энтузиазм и страсть, с какими он повествовал о героях Севера, были замечены, правда, романтик удостоился… упрека непрозорливого наставника: «Я трачу слишком много времени на чтение книжек о путешествиях, вместо того чтобы заниматься чем следует».
«Говорю вам, что эти мужи вечно стремились оскальпировать меня!» — не удержался от гневного восклицания писатель уже на склоне своих лет. Его, истинного романтика и искателя приключений, всю жизнь манили неисследованные земли, непознанные миры. «Фантазия моя, — откровенничал он, — рисовала достойных, предприимчивых и самоотверженных людей, вгрызающихся в края неизведанного, атакующих его с севера и юга, с востока и запада, завоевывающих кусочки истины то здесь, то там и порой поглощаемых тайной, к раскрытию которой так настойчиво устремлены были их сердца».
Однажды после одного из уроков («когда мне было лет девять или около того») поддразниваемый приятелями за свою нескрываемую приверженность к романтике Конрад, приставив палец на карте Африки к самому ее сердцу (тогда еще белое пятно, скрывавшее тайну контингента), решил: «Вырасту и побываю здесь!» «Я сам был пристыжен тем, что скатился к такому пустому бахвальству, — вспоминал Конрад, — Ведь ничто не могло быть несбыточнее самых фантастических моих помыслов. Однако факт остается фактом: лет восемнадцать спустя жалкий пароходик, которым я командовал, стоял на причале у берега африканской реки».
Не раз Конрад возвращался к воспоминаниям об этом эпизоде своей и без того полной всяческих приключений жизни. Случаен ли он, этот странный эпизод? Или есть в судьбе каждого нечто такое, что водительствует нами? Прямо-таки мистика какая-то!
Нет, Конрад не был ни мистиком, ни фаталистом, но все же снова и снова память печально и поэтично рисовала ему картину его удивительного путешествия по реке Конго, словно подсказанного ему кем-то в детстве.
«Все было темно под звездами. Все белые, находившиеся на борту, спали, кроме меня. Я рад был постоять в одиночестве на палубе и мирно выкурить трубку после тревожного дня. Чуть приглушенное ворчание громоподобного водопада Стенли висело в тяжелом ночном воздухе над последним судоходным отрезком верхнего Конго, в то время как не более чем в десяти милях, повыше водопада, в лагере Рашида беспокойно дремали еще не разбитые отряды арабов Конго. Для них день был уже окончен. Поодаль, в середине речного потока, на черном островке, приютившемся среди пены взвихренных вод, слабо мерцал одинокий маленький огонек, и я благоговейно произнес про себя: «Вот оно, то самое место, о котором я хвастался мальчишкой». Огромная печаль охватила меня. Да, это было то самое место. Но возле меня не было и тени друга, чтобы разделить со мной эту неимоверно пустынную ночь, ни памяти о великом прошлом… Я удивился тому, как я сюда попал, потому что, в самом деле, причиной этому был непредвиденный и представляющийся теперь невероятным эпизод в моей жизни моряка. И все же факт остается фактом: я выкурил полуночную трубку мира в самом сердце африканского континента и почувствовал себя там очень одиноким».