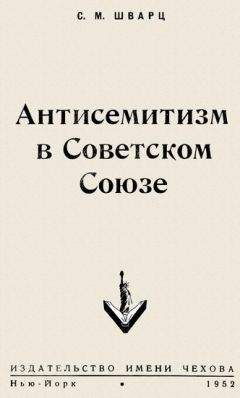Эренбург был в Испании. Он прошел сквозь всю испанскую эпопею с карандашом блестящего журналиста и горячим сердцем поэта. После разгрома он вернулся во Францию. Он был полон горечи. Мне кажется, что именно тогда понял он размеры предательства, ужаснулся этим размерам, ясно увидел бездну, к которой неуклонно шла Франция, совершая свое попятное движение. Эренбург задумал книгу о падении Парижа еще задолго до падения Парижа. Финал своей книги он увидел собственными глазами. Он видел, как немцы входили в Париж. Произошло то, что должно было произойти, что не могло не произойти. И Эренбург, возвратившись в Москву, тотчас же принялся за роман. Он писал его не отрываясь, со страстью человека, который видел, и с уверенностью человека, который понял.
Нет, пожалуй, ни одной стороны французской жизни, которой не осветил Эренбург в своем романе. С аккуратностью и терпением часовщика он разобрал до мельчайших деталей последние годы жизни Третьей республики, желая узнать, почему остановились эти дорогие золотые часы. Он разобрал их и разложил на своем столе все винтики, камни, крохотные пружинки. И он нашел, что некоторые детали сносились и уже не работают, а некоторые до такой степени проржавели, что остается только одно — выбросить их на помойку. Но часы все-таки существуют. Самое ценное осталось в них. Заржавевшие пружинки будут заменены, механизм обновится, и часы пойдут. Франция будет жить. Последние строки романа великолепны.
«Андрэ улыбался. Отошел к окну. Улица Шерш-Миди. Закрыты наглухо ставни, а на фасаде, как всегда, черные переплеты. В чердачном окне мертвый цветок. Бродят голодные коты, плачет цветочница, кричит новорожденный. Улица. Ищу. Полдень… А полдень я найду, обязательно найду — свет и праздник в небе — мед, маки, лазурь. Париж днем!..
Он не слышал, как, надрываясь, кричал громкоговоритель:
«Время! Время!»
Писатель знает: в конечном счете в мире побеждает хорошее, дурное должно уйти. Время! Время!
По своему размаху роман должен был бы стать эпопеей, энциклопедией французской жизни последних лет. Но он не стал ими. Это лежит в особенностях стиля Эренбурга. То, что иногда может показаться нам поспешностью писателя, есть его стиль. Это, выражаясь языком войны, не позиционная проза с солидными блиндажами и укреплениями. Это маневренная проза. Это — стремительное, глубокое движение, движение безостановочное. Когда писатель наталкивается на трудность, на сопротивление материала, он не останавливается, он ищет других обходных путей и находит их. Основа эренбурговского стиля — темп. Темп во что бы то ни стало. Ни минуты промедления. Как только материал был понят писателем, как только каждая деталь разобранных им событий стала ясна, его уже ничто не задерживало — он двинулся вперед, и читатель двинулся вслед за ним, поглощая страницу за страницей и с каждой новой страницей все яснее понимая, что такое могло произойти.
Предательство! Вот что погубило Францию. Бессердечные, беспринципные депутаты, стремящиеся к министерским постам с грубостью и нахальством носорогов, пробирающихся к водопою. Продажные журналисты, меняющие своих хозяев с равнодушием официантов. Зажравшиеся, цинически безразличные ко всему на свете и в то же время восхищенные собственным красноречием парламентские лидеры. Ханжествующие реакционеры, совершенно сознательно делающие ставку на Гитлера и по логике предательства превращающиеся в его лакеев. Генералы, не понимающие, что их военный консерватизм равносилен измене родине. Конечно, временное падение Парижа, а с ним и Франции, есть результат не только предательства в его чистом виде. Но предательство — один из важнейших моментов.
Эренбург почти что с научной точностью проанализировал в своем романе не только механику вольного и невольного предательства, но его психологию и логику.
Для предателя нет партий. Он может проникнуть в любую партию, предатель своей родины — сознательный или бессознательный немецкий агент. Как возмутился бы Тесса, старый радикал и парламентарий, если бы ему сказали, что он агент Гитлера! Но он был им, и политическая карьера привела его туда, куда и должна была привести, — в Виши. И она приведет его в Париж, прямо к немцам, и он станет их прямым, агентом, и никого это не удивит — ведь Тесса ничем другим и не мог кончить.
Образ радикала Тесса — настоящий шедевр современной литературы. Он построен писателем с железной логикой. Это тип. Эренбург вывел в своем романе огромное количество людей, хороших и плохих, молодых и старых, штатских и военных, глупых и умных. Большинство из них сделаны хорошо, а политические деятели — просто превосходно. Но Тесса, конечно, — номер первый. Он написан Эренбургом с мопассановским блеском. Человек-компромисс. С удивительной тонкостью определил Эренбург место таких, как Тесса, в Третьей республике.
Вот коротенькая сцена. Ее невозможно забыть. Тесса после предательства и разгрома Франции обосновался в Руайя, возле Виши. Уже было все — бегство, бомбежки, трупы женщин и детей, отчаяние, потом внезапные надежды: «Они пойдут на Лондон», — потом снова отчаяние, правительство переменило несколько городов, Тесса растерял возненавидевших его сына и дочь (они стыдились фамилии Тесса), Тесса, наконец, ударили по лицу, — было все, после чего остается одно — умереть. И вот Тесса в Руайя, в кондитерской «Маркиза де Севиньи», которая стала модной у парижских беглецов. Тесса неожиданно встречается со своим старым приятелем Дессером.
« — И ты тут? Мир действительно тесен! Пережить все, что мы пережили, и встретиться у „Маркизы де Севиньи“!
Дессер молчал. Тесса не унимался:
— Ты плохо выглядишь. Нехорошо, Жюль, нужно взять себя в руки! Я лично ожидал худшего. А все обошлось… Ты знаешь, наши дурачки — Мандель и компания — хотели удрать в Африку. Но мы их не пустили. В такие минуты должно быть единство нации… Теперь все скоро кончится — немцы пойдут на Лондон. Дело двух-трех месяцев… Мы вышли из игры, и это наш плюс. Что ты собираешься делать? Ты можешь нам помочь — теперь начнется экономическое восстановление. Почему ты смеешься? Я говорю вполне серьезно…
Дессер больше не смеялся; он сказал задумчиво:
— Это хорошо, что ты ничего не понимаешь… Пей шоколад и не думай! Ведь ты — клоп. Не сердись на меня, но ты — старый, почтенный клоп. И ты жил в старом, почтенном доме. Теперь дом сгорел. А клоп еще жив. Но сколько ему осталось?.. Мне тебя жаль — вот такого, как ты есть…
— Пожалей лучше себя! Меня нечего жалеть! — Тесса кричал от обиды. — Я не Фуже. Я человек новых концепций… Это ты цепляешься за прошлое: народный фронт, либерализм, Америка… Мы очистим страну от гнили… Я подготовляю текст новой конституции. Мы возьмем у Гитлера самое ценное — идею сотрудничества классов, иерархию, дисциплину, и прибавим наши традиции, культ семьи, французское благоразумие, а тогда…
Дессер не слушал; он задумчиво повторял:
— Бедный, старый клоп…»
Не менее блестяща сцена прожженного жулика, продажного журналиста, редактора Жолио. Он перебрался в Париж и редактирует там французскую газету. Ее никто не читает. Но хозяин есть. И хозяин платит. Правда, хозяин этот — немец. Но деньги есть деньги. Жолио сделал последнюю ставку и теперь ждет результатов игры. Но он марселец, веселый, остроумный человек (есть и такие предатели). Вот его разговор с женой.
« — Бретейль приехал, — сказал Жолио жене. — Скоро все покажутся, и Лаваль и Тесса.
Жена вздохнула:
— Легче от этого не станет. Я сегодня, обегала весь город — нет мыла. Вообще ничего нет. Все вывезли.
— Ясно. А уехать некуда. В Марселе то же самое. Эти крысы съели Европу, как голову сыра… Смешно! Ты знаешь, что мне пришло в голову? Вдруг… (Жолио закрыл окно и перешел на шепот.) Вдруг их все-таки побьют? Ты представляешь себе, какой невероятный скандал! В один вечер разойдутся пять миллионов экстренного выпуска. А Бретейля повесят…
— Что ты болтаешь? Если англичане победят, тебя тоже убьют.
Жолио весело закивал головой.
— Обязательно! Но все-таки это здорово… Как их будут резать, бог ты мой!.. Ради этого стоит повисеть на фонаре…»
Роман Эренбурга — глубокое произведение. Честь и слава писателю, который нашел в себе физические и моральные силы тотчас же после катастрофы отправиться по ее свежим следам, исследовать ее причины, проанализировать их и с вдохновением поэта написать свой роман в дни великого испытания для нашей родины, для всего мира. Как хорошо, что работоспособность Эренбурга равна его таланту.
Если бы Риомский процесс велся честно и на скамье подсудимых сидели бы те, кто должен был сидеть, роман Эренбурга мог бы стать одним из сильнейших документов обвинения.
Такой процесс будет.
Жолио может быть доволен. Ради этого ему придется повисеть на фонаре.
С помощью углового видоискателя Эренбург снимал когда-то людей, и снимки его были естественны и правдивы.