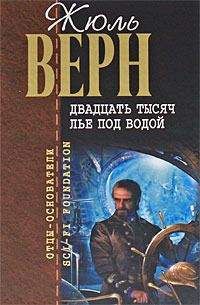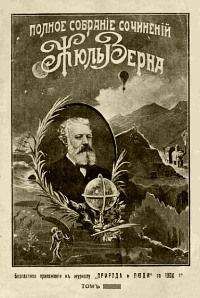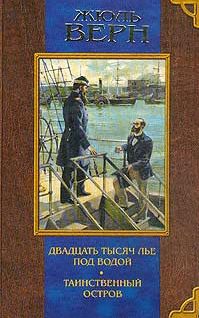«Вероятно, так было в утробе... Но спасибо и за осьминога.
Ибо мог бы просто пойти на дно, либо — попасть к акуле.
Все еще в поисках. Дикари, увы, не подмога:
о чем я их ни спрошу, слышу странное «хули-хули».
Вокруг бесконечные, скользкие, вьющиеся туннели.
Какая-то загадочная, переплетающаяся система.
Вероятно, я брежу, но вчера на панели мне попался некто, назвавшийся капитаном Немо».
«Снова Немо. Пригласил меня в гости. Я пошел. Говорит, что он вырастил этого осьминога как протест против общества. Раньше была семья, но жена и т.д. И ему ничего иного не осталось. Говорит, что мир потонул во зле.
Осьминог (сокращенно — Ося) карает жестокосердье и гордыню, воцарившиеся на земле.
Обещал, что если останусь, то обрету бессмертье».
«Представь себе вечер, свечи. Со всех сторон — осьминог. Немо с его бородой и с глазами голубыми, как у младенца. Сердце сжимается, как подумаешь, как он тут одинок...» (Здесь обрываются письма к Бланш Деларю от лейтенанта Бенца.)
... Я осторожно повертел головой из стороны в сторону, пытаясь рассмотреть убранство каюты и ее обитателей. Но очертания почему-то двоились в глазах, картины на стенах казались неясными цветовыми кляксами, фигуры присутствующих сливались в причудливые гибриды, и только обрамленное с боков огненно-рыжими волосами лицо поэта Уродского продолжало шевелить четко прорисованными, саркастически кривящимися губами:
... Когда корабль не приходит в определенный порт
ни в назначенный срок, ни позже,
директор компании произносит: «Черт»,
Адмиралтейство: «Боже».
Оба не правы. Но откуда им знать о том,
что приключилось? Ведь не допросишь чайку,
ни акулу с ее набитым ртом,
не направишь овчарку
по следу. И какие вообще следы в океане?
Все это — сущий бред.
Еще одно торжество воды
в состязании с сушей.
В океане все происходит вдруг.
Но потом еще долго волна теребит скитальцев:
доски, обломки мачты, спасательный круг;
все — без отпечатков пальцев.
И потом наступает осень, за ней — зима.
Сильнее дует сирокко. Лучшего адвоката
молчаливые волны могут свести с ума
красотою заката.
И становится ясно, что нечего вопрошать
ни посредством горла, ни с помощью радиозонда
синюю рябь, продолжающую улучшать
линию горизонта.
Что-то мелькает в газетах, толкующих так и сяк
факты, которых, собственно, кот наплакал.
Женщина в чем-то коричневом хватается за косяк
и оседает на пол.
Горизонт улучшается. В воздухе соль и йод.
Вдалеке на волне покачивается какой-то
безымянный предмет. И колокол глухо бьет
в помещении Ллойда...
— Что это он опять говорит? Какого Ллойда? — снова отвлек меня от следования за текстом поэмы уже знакомый мне голос, и, с усилием открыв глаза, я увидел высоко над собой круглолицего человека в светло-синей морской куртке с нашивками капитана первого ранга.
— Английская страховая компания «Ллойд», ежегодно издающая списки судов морского торгового флота всех стран с указанием порта приписки, — пояснил откуда-то сбоку невидимый мне собеседник, и, с трудом повернув голову, я увидел человека в белом халате. — Ну, вот он и открыл глаза! — с облегчением произнес доктор и, повернувшись к капитану, победно произнес: — Что я вам говорил? А?
— Слава богу! — с облегчением вздохнул тот и благодарно тронул доктора за плечо. — Спасибо, Алексей Борисович. Теперь я могу спокойно заниматься своим делом... Пойду сообщу эту новость Колесникову, а то он, бедный, испереживался весь...
Он с довольным выражением лица вышел за двери, и мы остались в каюте вдвоем с доктором.
— Все идет просто замечательно, — скорее сам себе, чем мне, говорил моложавый корабельный врач, набирая в шприц какой-то бесцветной жидкости. — Теперь я вас быстро поставлю на ноги. Но для начала надо хорошо поспать. Так что мы сделаем один небольшой укольчик, — и я почувствовал, как комариным укусом в мое предплечье вонзилась тонкая игла шприца, и вслед за этим меня окутал долгий умиротворяющий, как волшебная сказка, сон...
Долго ли длился этот сон, я не знаю, но когда я наконец окончательно открыл глаза, то увидел сидящего на табурете рядом с моей постелью молодого светловолосого парня, словно бы озаренного изнутри каким-то электрическим сиянием, то и дело растягивавшим его губы в улыбке, который, заметив, что я очнулся, еще более радостно встрепенулся и со совсем уж счастливой улыбкой подался мне навстречу.
— Ну? Как ты?
— Ничего, — прошептал я, чувствуя, что мои губы пересохли, как оставленное на ночь на столе пирожное, и, помогая себе объясниться жестом руки, попросил: — Пить.
— Сейчас, браток, одну секунду! — Он вскочил с места и через мгновение подал мне целую кружку воды, которую я тут же, не отрываясь, выпил, так что аж голова закружилась, как когда-то в гостинице от спирта.
— Порядок? — не стряхивая с лица свою чудесную улыбку, с надеждой спросил он.
— Нормально.
— Ну, слава Тебе, Господи! — радостно осенил он себя крестом. — А то я уже боюсь Лячину на глаза попадаться!
— Лячину? — вздрогнул я. — Геннадию Петровичу?
— Д-да, так зовут нашего командира…
— А тебя?
— Меня? Дмитрий... То есть — Дмитрий Романович Колесников. Капитан-лейтенант, командир турбинного отсека.
— Седьмого?
— Ну да.
— А ваша лодка? Она называется...
— «Курск». Или — К-141, если по номеру.
— Да, да, верно... К-141. Хотя... То, что вы все уже в Раю, это мне понятно, вы ведь все — герои. Но я-то — заслуживаю совсем другого места! Почему же я оказался здесь, вместе с вами?..
— Ну-у, — замялся Колесников, явно в затруднении от необходимости подыскивания слов для объяснения. — Это... Это пока еще не Рай, и ты, к счастью, живой и находишься не на небесах, а на действующей подводной лодке. И она тоже называется «Курск», понимаешь?
— Но она же погибла! Со всем экипажем! Или я сошел с ума?
— Да нет. Все верно, к сожалению. Погибла. Одна... А другая, с точно таким же названием...
Он вынул из кармана платок и вытер им выступивший от напряжения пот на лбу.
— Ты извини, пожалуйста, но я не могу тебе всего рассказать, это государственная тайна. Поговори об этом при встрече с нашим командиром.
— С Лячиным? — не без саркастического оттенка, уточнил я.
— Да, — твердым голосом подтвердил он. — С Геннадием Петровичем.
— Ну, хорошо, — прошептал я и закрыл глаза, чувствуя, как в голове сгущается холодная пугающая темнота. Да и, наверное, было бы странно, если бы от подобного не поехала крыша. Колесников, «Курск», капитан Лячин... Может быть, я все еще нахожусь в бреду, и все это — только продолжение бесконечной поэмы рыжеволосого поэта Уродского?..
По-видимому, я на какое-то время снова то ли заснул, то ли потерял сознание, потому что, когда опять открыл глаза, рядом с моей кроватью сидел уже не капитан-лейтенант Колесников, а тот, кого он называл командиром «Курска», Геннадием Петровичем Лячиным. Это был крупный, прямо-таки богатырски сложенный мужчина лет пятидесяти-пятидесяти пяти на вид (хотя большинство подводников, насколько я уже мог судить, выглядело обычно лет на пять-десять старше своего настоящего возраста), с большими залысинами у лба и грустными серыми глазами.
— Ну, привет, — улыбнулся он. — Заставил ты нас поволноваться, ничего не скажешь! Почти четверо суток без сознания. И при этом все какие-то стихи бормотал... Кого это ты штудировал?
— Бродского... Иосифа.
— Он что — действительно такой гениальный поэт, как о нем говорят?
— Да как вам сказать... Я думаю, что даже у самого никудышного автора можно найти несколько строчек, которые соответствуют или твоему внутреннему состоянию, или данному моменту истории.
— Например? — вскинул брови каперанг.
— Из Бродского? Ну вот хотя бы такое четверостишие. Я как раз недавно наткнулся на него в «Избранном»:
«...Мне — бифштекс по-режиссерски». «...Бурлаки в Североморске тянут крейсер бечевой, исхудав от лучевой...»
— Кх-гм! — подозрительно сощурив глаза, прокашлялся собеседник. — И чем же это соответствует текущему моменту?
— Ну-у... Вспыхнувшим сегодня вниманием к Североморску. А также характеристикой уровня состояния нашего флота... Наверное. Тут ведь все затушевано иронией.
— Не надо смеяться над нашим флотом. У него вполне соответствующий уровень, и я надеюсь, что скоро ты сможешь в этом и сам убедиться.
— Вы меня специально для этого и увезли с собой?