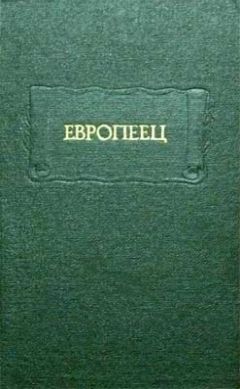«Я в лесу нашел волчью нору, старого волка убил там, а молодой укусил меня; спешу теперь домой взять цепь, приковать волчонка и приучить к себе, пускай бегает за мной как собака моя». Понравилась такая смелость графу Зигмунду, и спросил он: как зовут тебя, молодой смельчак? — Зигмунд, граф Гернсбергский, — отвечало дитя. Не мог удержать своего восторга граф, схватил мальчика и без памяти к сердцу прижимал: я отец твой, граф Зигмунд фон Гернсберг, — сказал ему наконец. Обрадовался малютка всею душою, и стал в вороты стучать и кричать во все горло: гей! сторож! отворяй ворота! Отец воротился! отец тут1
Отворились ворота, опустился подъемный мост, и побежал сын вперед, продолжая кричать: матушка! иди сюда! Отец воротился, отец тут! Не успел войти в комнату Зигмунд, а Мария бросилась ему на шею с радостным восторгом любви. Но граф Зигмунд не обнял ее, грустно взглянул и спросил: почему она не исполнила приказанья его, и не пришла освободить от неволи? Со слезами на глазах отвечала ему Мария, что не поверила послу его и не хотела бросить сына и хозяйство без надзора, не имевши никакого яснаго доказательства, что Зигмунду того хочется; прислал бы он хотя кончик епанчи своей, или перевязи, и не остановилась бы она, и поехала бы через море грозное поклониться салтану в ноги. Улыбка ее и взгляд, и слезы в лазурных глазах, все свидетельствовало в правде слов ее, и не мог долее крепиться граф, упал на шею к жене, ласкал ее с прежней любовию, также и сына своего. И все подданные радовались возвращению графа в стены замка Гернсбергского.
Через несколько дней созвал Зигмунд гостей к себе, рыцарей, своих товарищей, и собралися все к нему, а между ними много таких, которые на графиню злобствовали за то, что им не поверила, будто не жив супруг ее, будто должна она выбирать себе другого мужа, любого из них.
Сидели они долго за роскошным столом и вина домашнего выпили много: вдруг Зигмунд граф обратился к ним с вопросом: «Hy, друзья, братья — товарищи! Скажите-ка мне, хорошо ли вела себя жена моя, пока меня но было?» Замолчали все рыцари и бароны. Изумился Зигмунд и продолжал: «Скажите мне, скромно ли жила она, как прилично смиренной жене и не выезжала ли из владений замка моего Гернсбергского?» Тут засмеялись некоторые рыцари и с насмешкой отвечали ему: велико владение твоего замка, если жена твоя не выходила из него.
С бешенством требовал граф Зигмунд изъяснения и назвал того собакою и подлым доносчиком, кто не скажет всего, что на сердце. «Так знай же, — отвечали завистники, — что не долго жила дома скромно и тихо Мария твоя, а куда она ездила и с кем, спроси у того, кто провожал ее».
Ярость закипела в сердце Зигмунда, он схватил нож и хотел вонзить в грудь жены своей, но Мария убежала и затворилась в своей комнате. Рыцари удерживали графа и уговаривали, чтоб он не казнил жены своей; и пока они старались увещевать его, вдруг вошел в комнату чернец с арфой своей за плечами — и вскричал граф от радости и от горького чувства несчастия: смотрите, братья, други мои! вот тот добрый чернец, кому я обязан свободою! Добро пожаловать, чернец святый! — Чем угощу я тебя! — Чем могу наградить?
— Награди меня любовью! — отвечал чернец и снял маску, и увидел Зигмунд Марию свою!
Вне себя от умиления плакал Зигмунд, обнимая верную жену свою, и не мог опомниться, а рыцари подняли к небу полные кубки и единодушно возгласили: «Да здравствует верная жена, Мария!»
Г. Ф. Вехтер
VII. Екатерине Александровне Свербеевой
Мысль неразгульного поэта
Является божественно стройна:
В живые образы одета,
Святым огнем озарена;
Блажен, кто силен ей предаться,
Тот, чья душа спокойна и чиста,
Да в ней вполне изобразятся
Ее гармония, и свет, и чистота,
Так вы блистательно-прекрасны…
А что мой стих? питомец буйных лет
И проповедник разногласный
Мирских соблазнов и сует!
Доныне пьяными мечтами
Студент кипеть не перестал —
И странны были бы пред вами
Вакхический напев и хмель его похвал.
Но чужд святому вдохновенью,
Он ведает, где небо на земле;
Но место есть благоговенью
На удалом его челе:
И, полн таинственной отрады,
Усердно вам приносит он
Свои потупленные взгляды,
Смутившуюся речь и робкий свой поклон.
И. Языков
Голубоокая, младая,
Мой чернобровый ангел рая!
Еще в те дни, как пел я радость,
И жизни праздничную сладость,
Искрокипучее вино!
Тебе привет мой издалеча,
От москворецких берегов —
Туда, где звонких звоном веча
Моих пугалась ты стихов;
Где странно юность мной играла,
Где в одинокий мой приют
То заходил бессонный труд,
То ночь с гремушкой забегала!
Пестро, неправильно я жил!
Там все, чем бог добра и света
Благословляет многи лета
Тот край, все: бодрость чувств и сил,
Ученье, дружбу, вольность нашу,
Гульбу, шум, праздность, лень — я слил
В одну торжественную чашу,
И пил да пел: я долго пил!
Голубоокая, младая,
Мой чернобровый ангел рая!
Тебя, звезду мою, найдет
Поэта вестник расторопный,
Мой бойкий ямб четверостопный,
Мой говорливый скороход,
Тебе он скажет весть благую:
Да! я покинул наконец
Пиры, беспечность кочевую,
Я, голосистый их певец!
Святых восторгов просит лира —
Она чужда тех буйных лет,
И вновь и прелести сует
Не сотворит себе кумира!
Я здесь! — Да здравствует Москва!
Вот небеса мои родныя!
Здесь наша матушка-Россия
Семисотлетняя жива!
Здесь все бывало: плен, свобода,
Орда, и Польша, и Литва,
Французы, лавр и хмель народа,
Все, все!.. Да здравствует Москва!
Какими думами украшен
Сей холм давнишних стен и башен,
Бойниц, соборов и палат!
Здесь наших бед и нашей славы
Хранится повесть! Эти главы
Святым сиянием горят!
Сюда! на дело песнопений,
Поэты наши! Для стихов
В Москве ищите русских слов,
Своенародных вдохновений!
Как много мне судьба дала!
Денницей ярко-пурпуровой
Как ясно, тихо жизни новой
Она восток мне убрала!
Не пьян полет моих желаний;
Свобода сердца весела;
И стихотворческие длани
К струнам — и лира ожила!
Мой чернобровый ангел рая!
Моли судьбу, да всеблагая
Не отнимает у меня
Ни одиночества дневного,
Ни одиночества ночного,
Ни дум деятельного дня,
Ни тихих снов ленивой ночи!
И скромной песнию любви
Я воспою лазурны очи,
Ланиты свежие твои,
Уста сахарны, груди полны,
И белизну твоих грудей,
И черных, девственных кудрей
На ней блистающие волны.
Твоя мольба всегда верна!
И мой обет — он совершится!
Мечта любовью раскипится,
И в звуки выльется она!
И будут звуки те прекрасны,
И будет сладость их нежна,
Как сон пленительный и ясный,
Тебя поднявший с ложа сна!
Я. Языков
IX. Отрывки из письма Гейне о парижской картинной выставке 1831 года
Гораций Вернет[1] также украсил выставку нынешнего года своими драгоценными рубинами. Превосходнейшая из выставленных им картин есть Иудифь, готовая убить Олоферна[2]. Цветущая, стройная красавица только что поднялась с его ложа. Фиолетовая одежда, наскоро опоясанная, бежит к ногам ее; внизу бледно-палевое платье, рукав с правого плеча спустился; она левою рукою поднимает его: движение несколько резкое, удалое, но вместе очаровательно грациозное; правою рукою она в то же время обнажила кривой меч против спящего Олоферна. Голова страшно милая и неестественно привлекательная; черные кудри не вьются по лицу, но приподнимаются, как змеи, — с прелестью ужасною. Лицо немного в тени; сладостная дикость, мрачная миловидность и сентиментальная ярость изображаются в благородных чертах убийственной красавицы. Особливо глаза блестят сладкою жесткостью и наслаждением мщения; видно, что она и собственную обиду отомстить хочет на безобразном язычнике. Язычник же в самой вещи не очень привлекателен, но, кажется, добрый малой. Он так простосердечно спит в продолженном упоении своего блаженства. Храпит, может быть, — или, как говорит Луиза, спит громко, — уста его шевелятся, как будто ищут поцелуя; он покоится в недрах счастия, или, может быть, счастие покоится в его недрах. Упоенный блаженством и вином, без антракта болезни и страдания, он рукою прекрасного ангела переносится из одного сна в другой. Завидной конец! Бели мне когда-нибудь должно умереть, то, боги! пошлите мне Олофернову смерть.