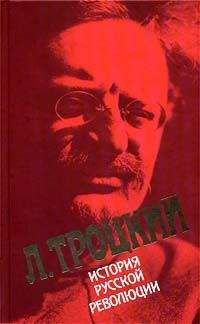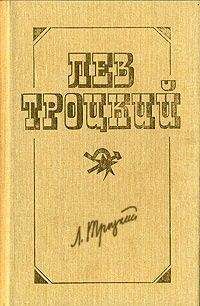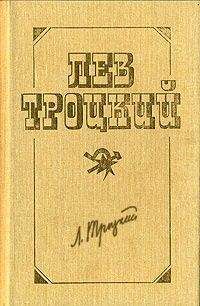11 июня собирается грозное судилище: Исполнительный комитет, члены президиума съезда, руководители фракций, всего около 100 человек. Прокурором выступает, как всегда, Церетели. Задыхаясь от бешенства, он требует суровой расправы и презрительно отмахивается от Дана, который всегда готов травить большевиков, но еще не решается громить их. "То, что делают теперь большевики, это уже не идейная пропаганда, это заговор… Пусть же извинят нас большевики. Теперь мы перейдем к другим методам борьбы… Большевиков надо обезоружить. Нельзя оставить в их руках те слишком большие технические средства, которые они до сих пор имели. Нельзя оставить в их руках пулеметы и оружие. Заговоров мы не допустим". Это новые ноты. Что, собственно, значит разоружить большевиков? Суханов по этому поводу пишет: «Ведь никаких особых складов оружия у большевиков нет. Ведь все оружие – у солдат и рабочих, которые в огромной массе идут за большевиками. Разоружение большевиков может означать только разоружение пролетариата. Мало того – это разоружение войск».
Надвинулся, другими словами, классический момент революции, когда буржуазная демократия, по требованию реакции, хочет разоружить рабочих, обеспечивших победу переворота. Господа демократы, среди которых есть начитанные люди, неизменно отдавали свои симпатии разоружаемым, а не разоружителям, поскольку дело шло о старых книгах. Но когда тот же вопрос предстал пред ними в действительности, они не узнали его. Одно то обстоятельство, что разоружить рабочих брался Церетели, революционер, годы проведший на каторге, вчерашний циммервальдец, не так просто укладывалось в голове. Зал застыл в оцепенении. Провинциальные делегаты почувствовали все же, по-видимому, что их толкают в пропасть. Один из офицеров забился в истерике.
Не менее бледный, чем Церетели, Каменев поднимается с места и восклицает с достоинством, силу которого чувствует аудитория: «Господин министр, если вы не бросаете слова на ветер, вы не имеете права ограничиваться речью. Арестуйте меня и судите за заговор против революции». Большевики с протестом покидают заседание, отказываясь участвовать в издевательстве над собственной партией. Напряжение в зале становится невыносимым.
На помощь Церетели спешит Либер. Сдерживаемое бешенство сменяется на трибуне истерическим неистовством. Либер требует беспощадных мер: «Если вы хотите получить массу, которая идет к большевикам, то рвите с большевизмом». Но его слушают без сочувствия, даже полу враждебно.
Впечатлительный, как всегда, Луначарский немедленно же пытается найти общий язык с большинством: хотя большевики уверяли его, что они имели в виду только мирную демонстрацию, тем не менее его собственный опыт убедил его в том, что «ошибочно было устраивать демонстрацию». Однако не надо обострять конфликтов. Не успокаивая противников, Луначарский раздражает друзей.
«Мы не боремся с левым течением, – иезуитствует Дан, наиболее опытный, но и наиболее бесплодный из вождей болота, – мы боремся с контрреволюцией. Не наша вина, если за вашими плечами стоят прихвостни Германии». Ссылка на немцев попросту заменяла аргументацию. Никаких прихвостней Германии эти господа, разумеется, указать не могли. Церетели хотел нанести удар. Дан предлагал ограничиться занесением руки. В своей беспомощности Исполнительный комитет примкнул к Дану. Резолюция, предложенная на другой день съезду, имела характер исключительного закона против большевиков, но без непосредственных практических выводов.
«Для вас, после посещения вашими делегатами заводов и полков, – гласило письменное заявление большевиков съезду, – не может быть сомнения в том, что если демонстрация не состоялась, то не вследствие вашего запрета, а вследствие отмены ее нашей партией… Фикция военного заговора выдвинута членом Временного правительства для того, чтобы провести обезоружение петроградского пролетариата и раскассирование петроградского гарнизона… Если бы даже государственная власть целиком перешла в руки Совета, – а мы на этом стоим – и Совет попытался бы наложить оковы на нашу агитацию, это могло бы заставить нас не пассивно подчиниться, а пойти навстречу тюремным и иным карам во имя идей интернационального социализма, которые нас отделяют от вас».
Советское большинство и советское меньшинство сошлись в эти дни грудь с грудью, как бы для решающего боя. Но обе стороны в последний момент сделали шаг назад. Большевики отказались от демонстрации. Соглашатели отказались от разоружения рабочих.
Церетели остался среди своих в меньшинстве. А между тем он был по-своему прав. Политика союза с буржуазией подошла к тому пункту, когда стало необходимым обессилить массы, не мирившиеся с коалицией. Довести соглашательскую политику до благополучного конца, т. е. до установления парламентского господства буржуазии, можно было не иначе как разоружением рабочих и солдат. Но Церетели был не только прав. Он был сверх того еще и бессилен. Ни рабочие, ни солдаты не сдали бы добровольно оружия. Значит, нужно было применить против них силу. Но силы у Церетели уже не было. Он мог ее получить, если вообще мог, только из рук реакции, которая, в случае успешного разгрома большевиков, приступила бы немедленно к разгрому соглашательских советов и не преминула бы напомнить Церетели, что он лишь бывший каторжник, и ничто более. Однако дальнейший ход вещей покажет, что таких сил не было и у реакции.
Необходимость борьбы против большевиков Церетели политически обосновывал тем, что они отрывают пролетариат от крестьянства. Мартов возразил ему: «не из недр крестьянства» черпает Церетели свои руководящие идеи. «Группа правых кадетов, группа капиталистов, группа помещиков, группа империалистов, буржуа Запада» – вот кто требует разоружения рабочих и солдат. Мартов был прав: имущие классы не раз в истории прятали свои притязания за спиной крестьянства.
С момента опубликования апрельских тезисов Ленина ссылка на опасность изоляции пролетариата от крестьянства стала главным аргументом всех тех, которые тянули революцию назад. Не случайно Ленин сближал Церетели со «старыми большевиками».
В одной из работ 1917 года Троцкий писал по этому поводу: «Изоляция нашей партии от эсеров и меньшевиков, даже самая крайняя, даже путем одиночных камер, еще ни в коем случае не означает изоляции пролетариата от угнетенных крестьянских и городских масс. Наоборот, резкое противопоставление политики революционного пролетариата вероломному отступничеству нынешних советских вождей только и может внести спасительную политическую дифференциацию в крестьянские миллионы, вырвать деревенскую бедноту из-под предательского руководства крепких эсеровских мужичков и превратить социалистический пролетариат в подлинного вождя народной, плебейской революции».
Но фальшивый насквозь довод Церетели оказался живуч. Накануне октябрьского переворота он возродился с удвоенной силой, как довод многих «старых большевиков» против переворота. Через несколько лет, когда началась идейная реакция против Октября, формула Церетели стала главным теоретическим оружием школы эпигонов.
* * *
На том же заседании съезда, которое судило большевиков в их отсутствие, представитель меньшевиков неожиданно предложил назначить на ближайшее воскресенье, 18 июня, в Петрограде и в важнейших городах манифестацию рабочих и солдат, чтобы показать врагам единство и силу демократии. Предложение было принято, хотя и не без недоумения. Месяц с лишним спустя Милюков довольно основательно объяснял неожиданный поворот соглашателей: «Произнеся кадетские речи на съезде советов, расстроивши вооруженную демонстрацию 10 июня… министры-социалисты почувствовали, что они зашли слишком далеко в приближении к нам, что почва у них уходит из-под ног. Они испугались и круто повернули в сторону большевиков». Решение о демонстрации 18 июня было, разумеется, не поворотом в сторону большевиков, а попыткой поворота в сторону масс против большевиков. Ночная очная ставка с рабочими и солдатами вообще произвела некоторую встряску на советской верхушке: так, вразрез с тем, что предполагалось в начале съезда, спешно издано было, от имени правительства, постановление об упразднении Государственной думы и о созыве Учредительного собрания на 30 сентября. Лозунги демонстрации выбраны были с таким расчетом, чтобы не вызывать раздражения масс: «Всеобщий мир», «Скорейший созыв Учредительного собрания», «Демократическая республика». О наступлении, как и о коалиции, – ни слова. Ленин спрашивал в «Правде»: «А куда же девалось полное доверие Временному правительству, господа?.. почему прилипает у вас язык к гортани?» Эта ирония била в цель: соглашатели не посмели потребовать от масс доверия тому правительству, в состав которого они входили.
Советские делегаты, вторично объезжавшие рабочие кварталы и казармы, делали накануне демонстрации вполне обнадеживающие доклады в Исполнительном комитете. Церетели, которому эти сообщения вернули равновесие и склонность к самодовольным поучениям, обратился к большевикам: «Вот теперь перед нами открытый и честный смотр революционных сил… Теперь мы все увидим, за кем идет большинство: за вами или за нами». Большевики приняли вызов еще прежде, чем он был так неосторожно формулирован. «Мы пойдем на демонстрацию 18 числа, – писала „Правда“, – для того, чтобы бороться за те цели, которые мы хотели демонстрировать 10 числа».