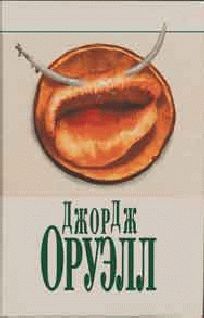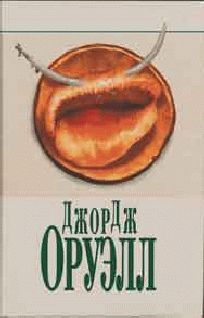Укрощение масс в мировых религиях
Религии, претендующие на универсальность, добившиеся признания, очень скоро изменяют акцент в своей борьбе за души людей. Первоначально речь для них идет о том, чтобы охватить и привлечь к себе всех, кого только возможно. Они мечтают о массе универсальной; для них важна каждая отдельная душа, и каждую они желают заполучить. Но борьба, которую им приходится вести, постепенно порождает нечто вроде скрытого уважения к противнику с его уже существующими институтами. Они видят, как непросто им держаться. Поэтому институты, обеспечивающие единство и устойчивость, кажутся им все более важными. Побуждаемые примером противников, они прилагают все усилия, чтобы самим создать нечто подобное, и, если им это удается, со временем такие институты становятся для них главным. Они начинают жить уже сами по себе, обретают самоценность и постепенно укрощают размах первоначальной борьбы за души. Церкви строятся таких размеров, чтобы вместить тех верующих, которые уже есть. Увеличивают их число осторожно и с оглядкой, когда это действительно оказывается необходимо. Заметно сильное стремление собирать верующих по группам. Именно потому, что их теперь стало много, увеличивается склонность к распаду, а значит, опасность, которой надо все время противодействовать.
Чувство коварства массы, можно сказать, в крови у исторических мировых религий. Их собственные традиции, на которых они учатся, напоминают им, как неожиданно, вдруг это коварство может проявиться. Истории массовых обращений в их же веру кажутся им чудесными, и они таковы на самом деле. В движениях отхода от веры, которых церкви боятся и потому преследуют, такого рода чудо обращается против них, и раны, которые они ощущают на своей шкуре, болезненны и незабываемы. Оба процесса — бурный первоначальный рост и не менее бурный отток потом — питают их постоянное недоверие к массе.
Они хотели бы видеть нечто противоположное ей — послушную паству. Недаром принято говорить о верующих как об овцах и хвалить их за послушание. Пастве совершенно чуждо то, что так важно для массы — а именно стремление к быстрому росту. Церковь довольствуется временной иллюзией равенства между верующими, на которой, однако, не слишком строго настаивает, определенной, причем умеренной плотностью и выдержанностью курса. Цель она предпочитает указывать очень отдаленную, где-то в потусторонней жизни, куда вовсе не нужно тотчас спешить, пока еще жив, ее еще нужно заслужить трудом и послушанием. Направление постепенно становится самым главным. Чем дальше цель, тем больше шансов на устойчивость. Как будто бы непременный принцип роста заменяется другим, весьма от него отличным: повторением.
Верующие собираются в определенных помещениях, в определенное время и при помощи одних и тех же действий приводятся в состояние, присущее массе, но состояние смягченное; оно производит на них впечатление, не становясь опасным, и они к нему привыкают. Чувство единства отпускается им дозированно. От правильности этой дозировки зависит устойчивость церкви.
В каких бы церквах или храмах ни приучились люди к этому точно повторяемому и точно отмеренному переживанию, им уже от него никуда не уйти. Оно уже становится для них таким же непременным, как еда и все, что обычно составляет их существование. Внезапный запрет их культа, подавление их религии государственной властью не может остаться без последствий. Нарушение тщательного баланса в их массовом хозяйстве может спустя время привести к вспышке открытой массы. И уже эта масса проявляет тогда все свои известные основные свойства. Она бурно распространяется. Она осуществляет подлинное равенство взамен фиктивного. Она обретает новую и гораздо более интенсивную плотность. Она отказывается на время от той далекой и труднодостижимой цели, для которой воспитывалась, и ставит перед собой цель здесь, в этой конкретной жизни с ее непосредственными заботами.
Все религии, подвергавшиеся внезапному запрету, мстили за себя чем-то вроде секуляризации. Сильная, неожиданно дикая вспышка совершенно меняет характер их веры, хотя сами они не понимают природы этой перемены. Они считают эту веру еще прежней и полагают, что лишь стараются сохранить свои глубочайшие убеждения. На самом деле они вдруг совершенно меняются, обретая острое и своеобразное чувство, присущее открытой массе, которую они теперь образуют и которой во что бы то ни стало хотят оставаться.
Паника в театре, как уже часто бывало замечено, это распад массы. Чем сильнее объединяло людей представление, чем более замкнута форма театра, который держит их вместе внешне, тем более бурно происходит распад.
Впрочем, может быть и так, что само по себе представление еще не создает настоящей массы. Часто оно вовсе не захватывает публику, которая не расходится просто потому, что уже пришла. То, чего не удалось вызвать пьесе, тотчас делает огонь. Он не менее опасен для людей, чем звери, самый сильный и самый древний символ массы. Весть об огне внезапно обостряет всегда присутствовавшее в публике чувство массы. Общая, несомненная опасность порождает общий для всех страх. На какое-то время публика становится подлинной массой. Будь это не в театре, можно было бы вместе бежать, как бежит стадо зверей от опасности, черпая дополнительную энергию в единой направленности движения. Такого рода активный массовый страх — великое коллективное переживание всех животных, которые живут стадом, быстро бегают и вместе спасаются.
В театре, напротив, распад массы носит насильственный характер. Двери могут пропустить одновременно лишь одного или нескольких человек. Энергия бегства сама собой становится энергией, отбрасывающей назад. Между рядами стульев может протиснуться лишь один человек, здесь каждый тщательно отделен от другого, каждый сидит сам по себе, на своем месте. Расстояние до ближайшей двери для каждого разное. Нормальный театр рассчитан на то, чтобы закрепить людей на месте, оставив свободу лишь их рукам и голосам. Движение ног по возможности ограничивается.
Таким образом, внезапный приказ бежать, который происходит от огня, вступает в противоречие с невозможностью совместного движения. Дверь, через которую каждый должен протиснуться, которую он видит, в которой он видит себя, резко отделена от всех прочих, это рама картины, которая очень скоро овладевает его мыслями. Так что масса подвергается насильственному распаду как раз на вершине своего самоощущения. Резкость перемены проявляется в самых сильных, индивидуальных действиях: люди толкаются, бьются, бешено колотят вокруг.
Чем больше человек борется «за свою жизнь», тем яснее становится, что борется он против других, которые мешают ему со всех сторон. Они выступают здесь в той же роли, что и стулья, балюстрады, закрытые двери, с той только разницей, что эти другие еще движутся против тебя. Они теснят тебя отовсюду, откуда только хотят, вернее, откуда теснят их самих. Женщин, детей, стариков щадят не больше чем мужчин, здесь просто никого не различают. Это характерно для массы, где все равны; и хотя каждый уже не ощущает себя частицей массы, он все еще ею окружен. Паника это распад массы внутри массы. Отдельный человек отпадает от нее в момент, когда ей как целому грозит опасность, он хочет от нее отделиться. Но так как он физически еще принадлежит ей, он вынужден против нее бороться. Довериться ей теперь означало бы для него гибель, поскольку гибель грозит ей самой. В такой момент он делает все, чтобы как угодно выделиться. Ударами и пинками он навлекает на себя ответные удары и пинки. Чем больше он их раздает, чем больше получает в ответ, тем яснее он ощущает себя, тем отчетливей начинает вновь осознавать границы собственной личности.
Интересно наблюдать, как много общего оказывается между массой и пламенем для вовлеченных в эту борьбу. Масса возникает благодаря неожиданному виду огня или возгласу «Пожар!»; подобно пламени она играет с тем, кто пытается из нее вырваться. Люди, которых этот человек расталкивает, для него словно горящие предметы, их прикосновение к любому месту тела враждебно ему, оно его пугает. Это общее чувство враждебности, напоминающее об огне, захватывает каждого, кто попадается на пути; то, как он постепенно подступает к каждому предмету отдельно и наконец полностью его охватывает, весьма напоминает поведение массы, грозящей человеку со всех сторон. Движения в ней непредсказуемы, вдруг вырывается из нее рука, кулак, нога, точно языки пламени, которые могут взвиться внезапно и где угодно. Огонь, приобретший вид лесного или степного пожара, есть враждебная масса, каждый человек может это ярко почувствовать. Огонь вошел в его душу как символ массы и таким остается в его сознании. А когда приходится видеть, как в панике старательно и как будто бессмысленно топчут ногами человека — это есть ни что иное, как растаптывание огня.