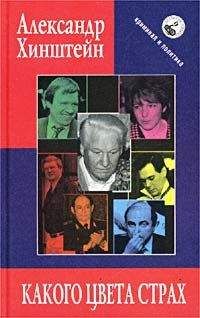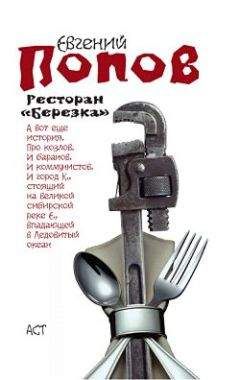В редакционном кабинете два часа Чебриков рассказывал о себе. О войне. О работе на металлургическом заводе. О Днепропетровском обкоме. О КГБ. Об Андропове.
Диктофон он включать запретил. Записывать за ним — тоже.
— Это первая встреча, притирочная. Может, я ещё откажусь.
Не отказался. Хотя и пытался.
— Ну как рассказать все? Пожил, слава богу. Да и ни к чему это. Для кого? Скажут еще: вот, рисуется.
Впоследствии встречались мы с ним раз пять или шесть. Я заезжал за ним на машине, вез на Лубянку. В Центре общественных связей ФСБ нам выделили кабинет.
Всякий раз Чебриков входил в желтое здание, где проработал 22 года, по-хозяйски, словно он все ещё — председатель КГБ.
— Здравствуйте, товарищи, — приветствовал прапорщиков у дверей. — Как настроение?
Ничего не поделаешь: партийно-покровительственный стиль въелся в него слишком глубоко.
Помню, к нам в комнату зашел поздороваться замначальника ЦОСа.
— Так, — властно изрек Чебриков. — При мне служил?
— Служил, Виктор Михайлович.
— Где?
— В кадрах.
— Нормально. Я кадры курировал… Садись.
Пожалуй, ни одно другое интервью не доставалось мне так тяжело. Чебриков говорил заскорузлым, официальным языком. Предпочитал выражения, типа «хочется отметить», «большой вклад», «была проделана значительная работа».
При этом о самом интересном — о КГБ — рассказывал крайне скупо. Перебивать себя не давал. Ответ на каждый вопрос занимал у него минимум минут двадцать.
Одна встреча вообще прошла впустую. Часа два он сидел перед диктофоном и крутил головой.
— Подожди, не включай. Дай собраться с мыслями.
Хотелось бросить все, но я сдерживался, понимая, что потом никогда себе этого не прощу. Делал вид, что внимательно слушаю, и думал о своем — пленка в диктофоне все равно крутилась.
Но на четвертой встрече он неожиданно сказал:
— Я вижу, ты скучаешь. Запомни: хороший журналист должен быть терпеливым.
Странно. Мне казалось, он не замечает моей скуки…
* * *
Мне трудно судить, каким он был председателем КГБ. Говорят о нем разное. И хорошее, и плохое. Что, впрочем, свойственно для людей неординарных.
Вполне возможно, он сыграл не самую лучшую роль в нашей истории. Диссиденты, отказники, тотальный контроль. Вполне возможно…
Но я познакомился уже не с председателем КГБ. Не с членом Политбюро и даже не с секретарем ЦК КПСС. С обычным стариком. Немного вздорным, тяжелым, властным. Но интересным и сильным.
Хотя не таким уж стариком он и был. После нашего визита в ФСБ Чебриков обратился к буфетчице:
— Дайте чего-нибудь выпить.
— Выпить?! Минералки, колы?
— Выпить! Водка у вас есть?
Удивленная официантка поставила перед ним бутылку «Праздничной». Я попытался налить ему чуть-чуть, но он отвел мою руку.
— Сам!
И разом бухнул себе полстакана. Поднял, посмотрел на свет.
— Будем!
Кадык заходил на старой морщинистой шее. Он выпил залпом, отломил кусочек сырокопченой колбасы и, глядя на мое обалдевшее лицо, изрек:
— Не волнуйся. Я свою меру знаю. Еще по чуть-чуть и — домой, к жене.
Двести граммов стали с тех пор неизменным спутником наших встреч…
Старая школа. Уже одно это заставляло относиться к нему с уважением. Он никогда не жаловался на здоровье, хотя тяжело и мучительно болел. Один осколок остался в нем навсегда.
И о войне Чебриков рассказывал буднично, без патетики и героики. Впрочем, — это я знаю наверняка — те, кто воевал по-настоящему, не любят говорить о войне.
Чебриков ушел на фронт в 41-м, с первого курса Днепропетровского металлургического института. С их курса домой вернулось потом только двое.
Ускоренный выпуск Житомирского пехотного училища. Первая должность — командир взвода 82-миллиметровых минометов. Смертник, по сути. На передовой долго не живут.
Но судьба почему-то хранила его. Два тяжелых ранения, одно легкое, контузия.
— Лежали мы с бойцами под деревом, отдыхали. Немцы ударили из дальнобойного орудия, попали прямо в дерево. Все семеро — насмерть, я живой.
Или другой случай:
— Рядом с окопом упала авиабомба. Я услышал свист, бросился на землю — сверху старшина. Поднимаюсь — вижу, весь в крови. Что такое? У меня ни царапины, старшине срезало половину туловища.
А весной 44-го, когда он напоролся на противотанковую мину, однополчане решили, что он уже труп. «Мы никогда не думали, что ты останешься жив», — скажут они потом.
Чебриков был человеком фартовым. Верил в удачу. И удача никогда его не подводила, хотя от смерти он не бегал.
Воевал под Сталинградом, на Воронежском фронте, на Курской дуге. Освобождал Харьков, форсировал Днепр. Победу встретил в Чехословакии. Уже майором.
Я спросил его: страшно было?
Он долго думал:
— Страшно. По старому уставу, командир должен был вставать первым, вести бойцов в атаку. Я не мог отсиживаться. Но и не держало меня ничто. Жены, детей — нет. Родители далеко.
С войны он принес ордена Красного Знамени и Александра Невского, медаль «За отвагу». Фронтовики знают цену этим наградам.
Впрочем, был в его биографии и эпизод, писать о котором он категорически запрещал. В середине войны Чебриков попал в штрафроту.
Он обходил посты, увидел у кого-то из солдат трофейный пистолет. Взял в руки, повертел, а пистолет оказался неисправным. Случайным выстрелом тяжело ранило офицера.
— У штрафника было только три пути. Первый — погибнуть. Второй — совершить подвиг. Третий, самый нереальный, — выжить.
Чебриков выбрал второй путь. Из разведки он привел «языка»: ночью по-пластунски дополз до вражеского окопа, оглушил немца. Судимость была снята.
Я долго уговаривал его, чтобы он разрешил написать о штрафроте.
— Ты не понимаешь политического момента, — набрасывался он. — Сразу скажут: вот, все они в КГБ такие, преступники.
Он вообще запрещал писать о многих вещах, в которых я лично не видел ничего крамольного. Например, о том, что в детстве он был огненно-рыжим и его били все окрестные мальчишки. Отец научил его драться. «Главное — первым делом бить в нос, чтобы сразу пошла кровь».
— Рыжие — они добрые, — уверял он. — А посмотри, как к рыжим относятся: частушки поют, песни.
— А как же Чубайс?
— Чубайс — он взрослый рыжий, — сердился Чебриков. — Он школы не прошел, не воевал, а цветами торговал.
Огромных трудов стоило убедить его оставить в газетном интервью кусок про то, как в детстве на стройке на него упала тележка и от страха он потерял дар речи. Только мычал.
— Ни к чему это все, не надо из меня героя делать. Одно дело — служба, товарищи. Другое — я.
Отказывался он говорить о делах КГБ, если касались они бывших республик.
— Не стоит нам лезть в политику. Это уже другие страны.
И про то, что отец его, машинист, дослужившийся до главного инженера завода, был в 38-м исключен из партии, он тоже писать не разрешал.
Сам Чебриков вступил в партию на фронте, при форсировании Днепра. Все было, как в патриотических книжках: «Если погибну — прошу считать меня коммунистом».
За одним лишь исключением: это происходило на самом деле…
* * *
Наверное, он искренне верил в коммунистическую идею. Даже не верил, нет. Это было чем-то неосознанным, догмой, усвоенной с детства, вдолбленной за шестнадцать лет работы в обкоме и горкоме.
О том времени Чебриков рассказывал с гордостью, рапортовал о достижениях и трудовых победах, словно на дворе стоял не конец 90-х, а начало 60-х. Даже принес как-то афишу: «ЦПКиО им. Шевченко. Доклад секретаря горкома тов. Чебрикова „Задачи трудящихся города по выполнению решений XXII съезда КПСС“. После доклада — эстрадный концерт и демонстрация документальных фильмов».
Как и Андропов, верность которому и поклонение Чебриков сохранил навсегда, он не был профессиональным чекистом. Администратором, посланным партией на руководство органами.