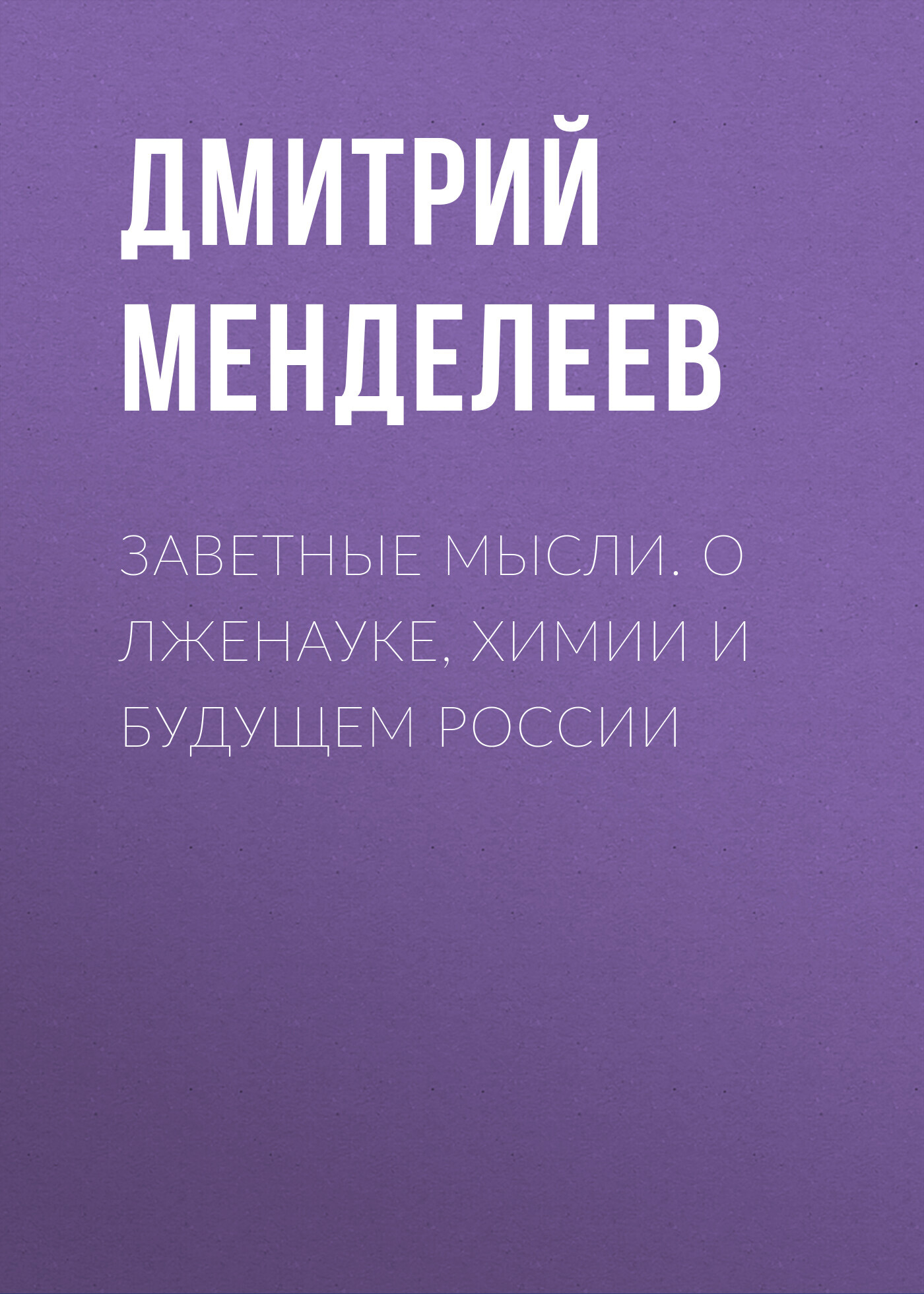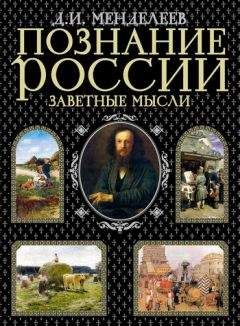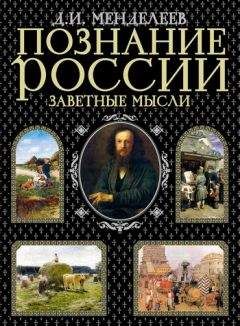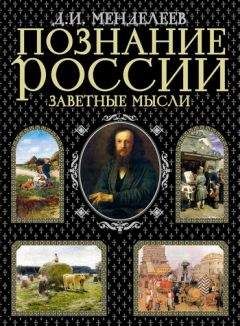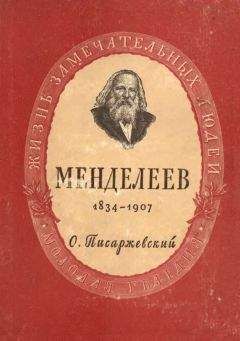или отвлечений. Вот и выходит белка в колесе. А как это увидят, сейчас и бросают, сейчас и впадают в скептицизм по отношению ко всем и всяким обобщениям, конечно, кроме слов, которые сами по себе не что иное, как первичные обобщения. Реализация, какая бы там ни была, обобщения, столь отвлеченного, как общее «единое», или «единство», просто-напросто противоречит самому духу наук и ни к чему, кроме сомнений скептицизма, приводить не может. Порок тут вовсе не в самой идее единства, а только в стремлении его реализовать в образы, формы и частные понятия.
Никогда этого не достичь по самой логике дела, а общее «единое» не следует и пытаться представить ни в таких материальностях, как вещество или энергия, ни в таких реальностях, каковы разум, воля, индивидуум или все человечество, потому что и то и другое должно охватываться этим общим «единым», и то и другое составляет лишь предметы обобщающих наук.
Итак, я объясняю скептицизм тем, что неразумность заставляет науку, обобщающую реализм и выводы предсказаний его покоряющую на пользу людскую и тем к реальности возвращающую, — заставляет науку относиться с теми же приемами к своим крайним обобщениям. Да этого делать-то не следует, потому что научные обобщения не есть уже меняющаяся безграничность или реальность, а ограничены тем, что удалось изучить (а изучены лишь «песчинки на берегу океана неизвестного», как сказал Ньютон) до того, что стало возможным кое-что предсказывать, и эти научные обобщения должны оставаться неизменными, пока само изучение реальности не заставит их изменять, расширять и совершенствовать. Оттого-то ничего толкового и полезного и не дала и не дает вся метафизика67, на которой и покоится весь скептицизм.
Но довольно о нем. Во всяком случае признать громадность массы совершенно неизвестного — неизбежно необходимо. Есть или нет в той или в этой данной области познаний какая-либо грань, которую нельзя перейти, я и рассматривать не стану, потому что для передачи того, что составляет предмет моих исходных мыслей, вовсе это решать и не надобно. Дело идет о данном времени и лишь о том, до чего может ныне достигать разумное обобщение, на чем должно или может соглашаться, хоть временно успокоиться лично, вовсе помимо «начала всех начал», для которого почва создается не изучением, а тем, что называется верою и определяется инстинктом, волею, чувством и сердцем. Ведь где-нибудь да кончаются же обобщения разума? Не сводится же вся его веками собираемая в науке работа на одну разработку частностей? Где же грань современных разумных обобщений, если не в «едином» общем? Вот тут вопрос мировоззрения, задача того разряда мыслей, по которому сыздавна отличают такие просто прикладные науки, как медицинские, инженерно-технические и юридические, от философских, куда относят не только саму философию, филологию и историю, но и все математические и естественные науки. Первые со вторыми связаны так тесно, что в этой тесноте запуталось много умов, но простой здравый смысл ясно сознает, что прикладные науки движутся философскими и в то же время что философские науки разрабатываются только потому, что их хотя бы и тусклый свет все же освещает пути жизни, т. е. служит на пользу и прямо и косвенно — через посредство прикладных наук. Уже одно первичное и явно не могущее никогда закончиться искание новых частей истины, отличающее науку, прямо указывает на стремление ее к усовершенствованию и на признание бездны неизвестного; короче, служение науке учит скромности, соединенной с настойчивостью, и отучает от скороспелой заносчивости и рабства предубеждения. А так как наука исходя из действительности или реальностей постепенно все же доходит до некоторых положений или утверждений, несомненно, оправдывающихся наблюдениями и опытами, то считать их частичной истиной или «законами» право имеют. Этого-то от науки, кажется, никто и не отнимает. Но так как в республике науки «свобода» мнений обеспечена до такой степени, что нет и попыток спрашивать большинство ни тайно, ни явно, то говорить от имени науки волен не только каждый, чему-либо учившийся, любой писатель, писака и фельетонист, но и простой проходимец, а потому заблудиться в «последних словах науки» чрезвычайно или до крайности легко. И не сыщется тут, пожалуй, никаких, кроме разве отрицательных, признаков для отличия всяких форм узурпации от действительного голоса науки, так как и чутье, здесь могущее руководить, не прирожденно и приобретается только долгим и горьким опытом. Он показывает, однако, что спокойная скромность утверждений обыкновенно сопутствует истинно научному, а там, где хлестко и с судейскими приемами стараются зажать рот всякому противоречию, истинной науки нет, хотя бывает иногда и художественная виртуозность, и много ссылок на «последнее слово науки». Почитайте-ка, как Коперник или Ньютон проводили найденные ими истины, — убедитесь. Наука истинная как будто говорит или советует: «Пожалуйста, не верьте на слово и постарайтесь только проверить», — оттого со своей стороны не могу не высказать совета: за науку настоящую считайте только то, что утвердилось после сомнений и всякого рода испытаний (наблюдений и опытов, чисел и логики), а «последнему слову науки» не очень-то доверяйтесь, не попытавши, не дождавшись новых и новых поверок. Новое искание истин — это только и есть наука, но из этого вовсе не следует, что она сводится к «последним словам». Действуя в науке более 50 лет, убеждаешься в необходимости этой осторожности. Доказывать этого здесь не буду, хоть и не закаиваюсь возвратиться к этому предмету в другом месте или при другом случае. Случаев-то благо теперь множество, больше чем когда-нибудь. Да, «переоценку» хотят иные сделать и в науке, такое уж теперь время, всюду — не у нас одних — бродит закваска, и требуется ясно писать «Заветные мысли» хотя бы для того, чтобы избежать хоть части огульных недоразумений. Вот для этой-то цели и считаю необходимым вновь68 сказать, что, по моему разумению, грань наук, доныне едва достигнутая и, по всей видимости, еще и надолго долженствующая служить гранью научного познания, грань, за которою начинается уже не научная область, всегда долженствующая соприкасаться с реальностью, из нее исходить и в нее возвращаться, эта грань сводится (повторю опять для избежания недоразумений — по моему мнению) к принятию исходной троицы несливаемых, друг с другом сочетающихся, вечных (насколько это нам доступно узнавать в реальностях) и все определяющих: вещества (или материи), силы (или энергии) и духа (или психоза). Признание их слияния, происхождения и разделения уже лежит вне научной области, ограничиваемой действительностью или реальностью. Утверждается лишь то, что во всем реальном надо признать или вещество, или силу, или дух, или, как это всегда и бывает, их сочетание, потому