Полоска света расползалась за темным пятном школьного сада.
Неожиданно от дороги послышался приглушенный голос Александра Андреевича Смолинского:
– Ордынцы, где вы запропастились?
Я отозвался.
– Не выдюжил я, Иваныч! Дай, думаю, на зорьке посижу. Эге, а Юрка-то мой спит?!
Александр Андреевич снял пиджак и накинул на сына, тот не очнулся.
– Давай задымим, что ли? Знаешь ли ты, Иваныч, сколько я поработал на своем веку? За сына и за внуков, если они народятся! Не дай бог никому. В сорок первом батьку взяли на фронт.
А мы остались. Мне одиннадцать, братке и сестре три и четыре года. Батьку как взяли, так и канул. В сорок третьем открытка пришла от Клевшина, вместе они уходили. Пишет, что эшелон въехал на станцию Мотыли чи Копыли, за Воронежем, а там немец. А они, наши-то, безоружные, их в часть везли, обмундировали, а оружия не дали. Ну, немец построил их поротно и погнал. Клевшин удрал с этапа, а батьки и след простыл. Матка меня главным в доме сделала, а сама все пропадала на поле да в коровнике. Шла раз домой через пшеницу, намолотила ладонями карман зерна, прямо со стебля. Ее и застукали. Да по военной статье и выдали... Остался я за хозяина. Ни бабки, ни дедки. Дедку еще до войны в колодце прибило. Знаешь на порядке, где Илья Голодный живет, колодец повиликой обтянуло? Деду памятник. Чистил он этот колодец, и уронили ему бадью прямо на темя. Там ведь не увернешься, не прыгнешь в сторону. Как в танке.
Изба у нас была черная, тараканы бегают. Посадил я малолетних родственников против себя, говорю: пищать будете, посрываю головы. Они видят, матки нет, никто не заступится. Молчат.
Пошел по домам. Не попрошайничать! Кому сараюху вычистить, кому завалинку засыпать, кому картошку выкопать. Смотрю, день прошел – живем, два – не померли. Холода подходят. Дверь в пазах разошлась – сбил топором. Трубу глиной обмазал, вторые рамы вставил. Зимовать будем, говорю родственникам.
Про запас с деревенских беру и капусту, и картошку, и свеклу.
Вдруг тетка городская приехала, с бумагой. Кличут меня в детдом. Как же, щас штаны сниму! У меня самого воспитаннички – не отдавать же их в приют. Не отдал. И сам не пошел. Три года отдубасил. Крышу перекрыл, козу завел и доил...
Помню, как-то стою во дворе и вижу – матка моя идет, не идет, а бежит. Я в избу, кричу: «Сойдите на улицу, жалуйтесь матке, плачьтесь, где вас обидел... Больше не родитель я вам! Спать лягу, до утра не встану, не поднимете. В школу пойду, книжки читать научусь – не оторвете меня от книжек».
В школу так и не пошел. Сеял и косил, печи клал и навоз вывозил в поле. После трактор освоил... Теперь Юрка ткнется к машине иль к рубанку, я как шугану его: «Марш на стадион, за меня поиграй, за батьку своего, за детство его окаянное»…
Наш утренний улов невелик, полведра. Я доволен. Смолинские – нет. «Разве это улов?» – разочарованно сказал Юрка.
Приближалась пора занятий в школе, но ночи не приносили прохлады. Похоже, и осень отстоит под солнцем. Оно вроде и ничего, если думать об уборочной, да урожай-то нынче какой? Не уродилась капуста, завяли на кусту помидоры и огурцы. Иные хозяева спасали огороды с пруда, но и пруд совсем обмелел.
В один из августовских дней пришли женщины к школе, сильно шумели, потом разошлись по классам, запахло свежо и резко гашеной известью, и пахло долго.
Шестнадцатого сентября на рассвете застучало о крышу, будто кто-то в сапогах стал бегать по ней. Я вскочил, вышел на улицу – дождь сек округу и сад! Легкий туман курился над пашней и огородами.
Натянув плащ, пошел я к школе, миновал ее, побрел к пруду. В избах на берегу зажглись огни.
Бабка Домна вынесла Божью матерь, с непокрытой головой стояла на улице. Возле других домов тоже были люди. Все молчали. Только дождь, большой и высокий, долдонил все громче и настырнее, потом разом остановился, как по команде.
В школе объявили праздник. Директор сказал на линейке:
– Надо жить сегодня по-особому. Сто тридцать дней засухи миновали. Будем писать сочинение «Первый дождь в Кочетовке»...
У меня урок в восьмом классе. Так получилось. Школьный историк заболел, и директор, мой старый товарищ, зазвал меня вести уроки с четвертого по восьмой класс: «Поживешь еще в Кочетовке – и тебе, и нам польза». Что ж, я согласился. Наступила такая пора в моей жизни, что торопиться вроде некуда, и крестьянские дети угрели мое сердце, истомившееся по родному углу, по всамделишным нравам.
Не торопясь ищу журнал. Слышу запах прибитой дождем пыли – окно в учительской открыто; вижу, как ходят по сырой дороге грачи. Звонит звонок, трель гуляет по двору, вкатывается в коридор. Гомон недолго стоит в коридоре. Иду в класс.
Ребята встают, я здороваюсь.
– Посмотрите на улицу,– прошу,– откройте окна. Послушайте, подышите.
Клен с надломленной вершиной стоит в палисаднике умытый, мы видим чистую бронзу его листьев. Ветра нет, облака медленно плывут в небе...
Наверное, это первое сочинение в их жизни, когда нельзя припомнить строчку из учебника, а приходится брать ощущения прямо из жизни, из утра, и писать их.
Я наблюдаю. Шариковая ручка Юрки Смолинского летает над бумагой, сам он весь ушел, врос в парту. Сосед Юркин, шалун несусветный, сосредоточен и тих. Потом я прочитаю в его неровных строчках, как он кормил свежей травой кроликов: «Кролики хрустели и просили еще добавки. Я давал им понемножку, и они смеялись. Я чуть не опоздал в школу».
Отказалась писать сочинение Тоня Кудасова. Тихо просидела два урока, сдала пустую тетрадку.
В учительской я спросил:
– Тоня не захотела писать про дождь. Как это понять? Два урока о чем-то дальнем думала, и вот результат...
Мария Филипповна, старая литераторша, полистала ее тетрадку и вздохнула.
– Причина серьезная.
Вот уж не гадал, что пройдет три месяца, и мы сойдемся крепко с Коляшей, старшим братом Сереги Уварова, на праздники будем пить вино и рассуждать о политике. У Коляши забота – жениться и Серегу довести до ума. Должность пастуха, правда, малопочтенная нынче для молодого парня, но прибыльная. Коляша частенько навеселе, в клубе затевает драки. Два раза его били легко – «учили», в третий раз схлопотал посильнее и отлеживался. Приходил к нему начальник колхоза, мужик тугодумный, усовещал, на Серегу показывал: «Плохой пример подаешь». Коляша хотел стерпеть, но вдруг закричал:
– Никитке ноги ломать буду, дай подняться!
Председатель плюнул и ушел, но, видно, передал Никите Копылову, допризывнику, остерегаться. Никита поймал возле школы Серегу и велел наказать брательнику в клуб не ходить одному.
Узнал я об этом, беседовал с братьями и уговорил замириться. И точно – на седьмое Коляша и Никита пришли ко мне в обнимку...
А в школе симпатии мои отданы Юрке Смолинскому и Сереге. На уроках из пестрой толпы Серегина взрослость проступила явственней, а Юркина инфантильность как бы притухла. Оно и неудивительно: нынче редкая семья в Кочетовке без отца, а в полных семьях достаток уничтожил раннее становление характера.
Однажды Серега Уваров пришел в школу сердитый и нахохленный. Молчал, в точку глядел. Я из духа противоречия решил вызвать его. Он встал, к доске не пошел.
– Не учил, что ли? – спросил я. Молчит. Я спросил его по прошлому уроку – память у Сереги цепкая, уж что-нибудь да ответит. Снова молчит.
Я рассердился и поставил двойку. Событие из ряда вон – никогда не ставлю двоек, чтобы не породить ненависти к истории. А тут поставил. Но что-то покоя не давало – наведался домой к нему.
Мать вздохнула:
– Да ведь Дозор сдох у него. Щенок , белошерстный. Сдох ни с того ни с сего.
Пришлось мне извиняться на уроке перед Уваровым.
У Юрки Смолинского таких переживаний никогда не было, нет и, наверное, не будет...
С первым снегом ушла на вечный покой бабка Домна, хоронили ее всем селом.
– Вот и сны твои дурные сбылись,– сказала Юрке мать, но Юрка уже и сны забыл, и рыбалку нашу с колокольцем, а о бабке отозвался простодушно:
– Старая была, чего жить-то дальше? – и схлопотал от отца щелчок. Через час я видел Юрку веселым, как прежде. Он задирал ребят, егозил. Одним словом, вел себя обычно.
Когда объявил я чтение книжек вслух, Юра пришел одним из первых, но хорохорился: неинтересно-де. И все-таки история Белого Бима – Черное ухо, бесхитростно рассказанная Гавриилом Троепольским, взяла в полон и Юрку: сидел не шелохнувшись. Свет потух – терпеливо ждал, когда лампу семилинейную заправим. Пришла на чтение и Тоня Кудасова. Я обрадовался, не знал, куда усадить ее.
– У вас один журнал, а у папы весь «Бим» в подшивке,– обмолвилась она.
Действительно, мы раздобыли в районо лишь начало, продолжение я решил искать в деревне. Попросил Тоню принести, но она замялась и не обещала. Пришлось идти самому.
Морозы уже заковали церковный пруд, и грязь застыла на дорогах. Василий Васильевич сидел дома, валенки подшивал.
Я спросил:
– А где же Тоня дотемна гуляет? На дворе хоть глаз выколи.
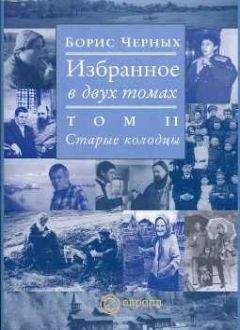



![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)
