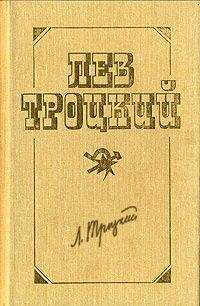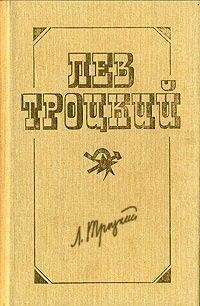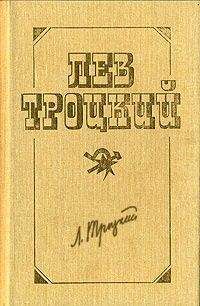Мы приведем одно свидетельство, но достаточно яркое. "Парламентаризм, – писал Поль Лафарг,[75] в русском сборнике «Социал-Демократ» в 1888 г., – есть такая правительственная система, при которой у народа является иллюзия, будто он сам управляет делами страны, тогда как в действительности фактическая власть сосредоточивается при этом в руках буржуазии, и даже не всей буржуазии, а лишь некоторых слоев этого класса. В первый период своего господства буржуазия не понимает или, вернее, не чувствует необходимости создавать для народа иллюзию самоуправления. Поэтому все парламентские страны Европы начинали с ограниченной подачи голосов; повсюду право давать направление политике страны, посредством избрания депутатов, принадлежало вначале лишь более или менее крупным собственникам и затем уже постепенно распространялось на менее состоятельных граждан, пока, в некоторых странах, не превратилось из привилегии во всеобщее право всех и каждого.
«В буржуазном обществе, чем значительнее становится масса общественного богатства, тем меньшим и меньшим числом личностей она присваивается; то же происходит и с властью: по мере того, как растет масса граждан, обладающих политическими правами, и увеличивается число избираемых правителей, действительная власть сосредоточивается и становится монополией все меньшей и меньшей группы личностей». Таково таинство большинства.
Для марксиста Лафарга парламентаризм остается до тех пор, пока сохраняется господство буржуазии. «В тот день, – пишет Лафарг, – когда пролетариат Европы и Америки овладеет государством, он должен будет организовать революционную власть и диктаторски управлять обществом, пока буржуазия не исчезнет, как класс».
Каутский в свое время знал эту марксистскую оценку парламентаризма и не раз повторял ее сам, хотя и не с такой галльской ясностью и остротой. Теоретическое отступничество Каутского в том именно и состоит, что, признав принцип демократии абсолютным и незыблемым, он от материалистической диалектики вернулся вспять к естественному праву. То, что было разоблачено марксизмом, как передаточный механизм буржуазии, и лишь подлежало временному политическому использованию, в целях подготовки революции пролетариата, снова освящено Каутским, как верховное начало, стоящее над классами и безусловно подчиняющее себе методы пролетарской борьбы. Контрреволюционное вырождение парламентаризма нашло свое наиболее законченное выражение в обоготворении демократии упадочными теоретиками II Интернационала.
Вообще говоря, достижение партией пролетариата большинства в демократическом парламенте не является безусловной невозможностью. Но такой факт, даже если бы он осуществился, не вносил бы ничего принципиально нового в развитие событий. Промежуточные элементы интеллигенции, под влиянием парламентской победы пролетариата, оказали бы, может быть, меньшее противодействие новому режиму. Но основное сопротивление буржуазии определялось бы такими факторами, как настроение армии, степень вооружения рабочих, положение в соседних государствах; и гражданская война развивалась бы под давлением этих реальнейших обстоятельств, а не зыбкой арифметики парламентаризма.
Наша партия не отказывалась открыть дорогу диктатуре пролетариата через ворота демократии, отдавая себе ясный отчет в известных агитационно-политических преимуществах такого «легализованного» перехода к новому режиму. Отсюда наша попытка созвать Учредительное Собрание. Эта попытка потерпела неудачу. Русский крестьянин, только пробужденный революцией к политической жизни, оказался лицом к лицу с полудюжиной партий, из которых каждая как бы поставила себе целью сбить его с толку. Учредительное Собрание стало поперек пути революционному движению – и было сметено.
Соглашательское большинство Учредительного Собрания представляло собою только политическое отражение недомыслия и нерешительности промежуточных слоев города и деревни и более отсталых частей пролетариата. Если стать на точку зрения отвлеченных исторических возможностей, то можно сказать, что было бы менее болезненно, если бы Учредительное Собрание, проработав год-два, окончательно дискредитировало эсеров и меньшевиков их связью с кадетами и тем привело бы к формальному перевесу большевиков, показав массам, что на деле существуют лишь две силы: революционный пролетариат, руководимый коммунистами, и контрреволюционная демократия, возглавляемая генералами и адмиралами. Но вся суть в том, что темп развития внутренних отношений революции вовсе не шел нога в ногу с темпом развития международных отношений. Если бы наша партия возложила всю ответственность на объективную педагогику «хода вещей», то развитие военных событий могло опередить нас. Германский империализм мог овладеть Петербургом, к эвакуации которого правительство Керенского приступило вплотную. Гибель Петербурга означала бы тогда смертельный удар пролетариату, ибо все лучшие силы революции сосредоточивались там, в Балтийском флоте и в красной столице.
Нашу партию можно обвинять, следовательно, не в том, что она пошла наперекор историческому развитию, а в том, что она совершила прыжок через несколько политических ступенек. Она перешагнула через голову меньшевиков и эсеров, чтобы не дать германскому милитаризму перешагнуть через голову русского пролетариата и заключить мир с Антантой на спине революции прежде, чем она успеет на весь мир расправить свои крылья.
Из сказанного не трудно вывести ответы на те два вопроса, которыми донимает нас Каутский. Во-первых, зачем мы созывали Учредительное Собрание, раз имели в виду диктатуру пролетариата? Во-вторых, если первое Учредительное Собрание, которое мы сочли нужным созвать, оказалось отсталым и не отвечающим интересам революции, почему отказываемся мы от созыва нового Учредительного Собрания? Задняя мысль Каутского та, что мы отвергли демократию не по принципиальным причинам, а только потому, что она оказалась против нас. Чтобы поймать эту инсинуацию за ее длинные уши, восстановим факты.
Лозунг «вся власть Советам» был выдвинут нашей партией с самого начала революции, т.-е. задолго не только до роспуска Учредительного Собрания, но и до декрета об его созыве. Правда, мы не противопоставляли Советов будущему Учредительному Собранию, созыв которого все более оттягивался правительством Керенского[76] и потому становился все более проблематичным, но мы, во всяком случае, не рассматривали Учредительного Собрания, по образцу мелкобуржуазных демократов, как будущего хозяина земли русской, который придет и все разрешит. Мы выяснили массам, что подлинным хозяином могут и должны стать революционные организации самих трудящихся масс – Советы. Если мы не отвергли формально Учредительного Собрания заранее, то потому лишь, что оно противопоставлялось не власти Советов, а власти самого Керенского, который, в свою очередь, был только вывеской буржуазии. При этом нами было решено заранее, что если бы в Учредительном Собрании большинство оказалось за нас, то Учредительное Собрание должно было распустить себя, передав власть Советам, как это сделала впоследствии Петербургская городская дума, избранная на основе самого демократического избирательного права. В своей книжке «Октябрьская Революция» я старался выяснить те причины, по которым Учредительное Собрание явилось запоздалым отражением эпохи, уже превзойденной революцией. Так как организацию революционной власти мы видели только в Советах и так как ко времени созыва Учредительного Собрания Советы были уже фактическою властью, то вопрос и решался для нас неизбежно в сторону насильственного роспуска Учредительного Собрания, которое само не желало распустить себя в пользу власти Советов.
Но почему, – спрашивает Каутский, – вы не созываете нового Учредительного Собрания?
Потому, что не видим в нем нужды. Если первое Учредительное Собрание могло еще сыграть мимолетную прогрессивную роль, дав убедительную для мелкобуржуазных элементов санкцию режиму Советов, который только устанавливался, то теперь, после двух лет победоносной диктатуры пролетариата и полного крушения всех демократических попыток в Сибири, на беломорском побережье, на Украине, на Кавказе, – власть Советов, поистине, не нуждается в освящении подмоченным авторитетом Учредительного Собрания. Не в праве ли мы в таком случае заключить, – вопрошает Каутский в тон Ллойд-Джорджу, – что Советская власть правит волею меньшинства, раз она уклоняется от проверки своего господства всеобщим голосованием? Вот удар, который бьет мимо цели!
Если парламентский режим даже в эпоху «мирного», устойчивого развития был довольно грубым счетчиком настроений в стране, а в эпоху революционной бури совершенно утратил способность поспевать за ходом борьбы и развитием политического сознания, то советский режим, несравненно ближе, органичнее, честнее связанный с трудящимся большинством народа, главное свое значение полагает не в том, чтобы статически отражать большинство, а в том, чтобы динамически формировать его. Вставши на путь революционной диктатуры, рабочий класс России тем самым сказал, что свою политику в переходный период он строит не на призрачном искусстве соревнования с хамелеонскими партиями в целях уловления крестьянских голосов, а на фактическом вовлечении крестьянских масс, рука об руку с пролетариатом, в дело управления страной в подлинных интересах трудящихся масс. Эта демократия поглубже парламентаризма!