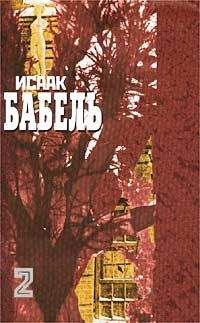Если бы радость не теснила так неотступно сердце, об этом можно было бы рассказать последовательно и деловито.
Но сегодня мы отмахиваемся от последовательности, как от июльской мухи.
Кучки старых черноморских матросов, поджав ноги, сидят на деревянной пристани, сидят разнеженные и застывшие, как кейфующие арабы, и не могут отвести глаз от черных, отлакированных бортов.
Целой толпой поднимаемся мы на палубу развенчанного «Жоржа». Машина, выверенная, как часы, сверкающая красной медью трубок и жемчужным налетом цилиндров, держит нас в восхищенном плену. Мы окружены горами хрусталя в кают-компании, отделанной мрамором и дубом, строгой чистотой кают и пахучей краской стен.
— Всего два месяца, как выведен из капитального ремонта, — обращается ко мне старый боцман, назначенный на «Шаумяна», — сорок тысяч фунтов стерлингов обошелся… Да я же помру на этом пароходе и никакой претензии к богу иметь не буду. Сорок тысяч фунтов — сколько это на наши деньги, Яков?
— Сорок тысяч фунтов… — раздумчиво повторяет Яков, покачиваясь на босых ногах, — на наши деньги этого сказать невозможно…
— То-то и оно, — торжествующе восклицает боцман, — да столько же стоит и «Эдвиг». Вот и посчитай на наши деньги…
— На наши деньги, — упрямо повторяет качающийся Яков, — этого счета я и сделать не могу никак…
И блаженное багровое лицо Якова никнет к палубе, полное лукавого восторга и подавленного смеха. Его пальцы самозабвенно щелкают в воздухе, и спина гнется все ниже.
— Ты никак под мухой сегодня, Яков? — спрашивает его проходящий мимо нас новый капитан «Камо».
— Я не под мухой, товарищ капитан, — наставительно отвечает Яков, — но по случаю такого случая я действительно сегодняшний день нахожусь под парами, потому как судно готовится в рейс на Одессу, а также мне смешно это дело до без конца… К примеру сказать, товарищ капитан, вы, по вашему злодейству, сведя у меня жену… Ну, не то чтобы знаменитая какая баба, ну, для меня, по бедности, подходящая… Ну, свели и свели… Проходит год времени, а опосля того проходит еще год времени. Добираюсь я неожиданным путем до своей бабы, а она гладкая, как кабан, одетая и обутая, с брюшком да с серьгами, в кармане деньги, а на голове разнообразная прическа, лицо подманчивое, фасад неописуемый и из себя представительная до невозможности…
Неужели же, товарищ капитан, я по случаю такого случая не могу развести пары, коль скоро судно готовится в рейс?
— Разводи пары, Яков, — смеясь, сказал капитан, — да не забудь закрыть клапана.
— Есть, капитан! — прокричал Яков.
Мы все вернулись в выверенное, как часы, машинное отделение.
(Письмо из Батума)
…И вышло так, что мы поймали вора. Шиворот у вора оказался просторный. В нем поместились два товаро-пассажпрских парохода. Чванный флаг захватчиков уныло сполз книзу, и на вершину мачты взлетел другой флаг, окрашенный кровью борьбы и пурпуром победы. Поговорили речи и на радостях постреляли из пушек. Кое-кто скрежетал зубами в это время. Пусть его скрежещет…
Теперь дальше. Жили-были на Черном море три нефтеналивных парохода «Луч», «Свет» и «Блеск». «Свет» помер естественной смертью, а «Луч» и «Блеск» попали все в тот же накрахмаленный шиворот. И вышло так, что мы из него дня три тому назад вытряхнули «Луч», то бишь «Лэди Элеонору» солидное судно с тремя мачтами, вмещающее в себя сто тысяч пудов нефти, блистающее хрусталем своих кают, чернотой своих могучих бортов, красными жилами своих нефтепроводов и начищенным серебром своих цилиндров. Очень полезная «Лэди». Нужно полагать, что она сумеет напоить советской нефтью потухшие топки советских побережий.
«Лэди» стоит уже у пристани Черномортрана, на том самом месте, куда был подведен раньше и «Шаумян». На ее плоской палубе расхаживают еще какие-то джентльмены в лиловых подтяжках и лаковых туфлях. Их сухие и бритые лица сведены гримасой усталости и недовольства. Из кают выносят им несессеры и клетки с канарейками. Джентльмены хриплыми голосами переругиваются между собой и слушают автомобильные гудки, несущиеся из дождя и тумана…
Бледный пламень алых роз… Серый шелк точеных ножек… Щебетанье заморской речи… Макинтоши рослых мужчин и стальные палочки их разглаженных брюк… Пронзительный и бодрый крик моторов…
Канарейки, несессеры и джентльмены упаковываются в автомобили и исчезают. А остается дождь, неумолимый батумский дождь, ропщущий из поверхности почерневших вод, застилающий свинцовую опухоль неба, роющийся под пристанью, как миллионы злых и упрямых мышей. И еще остается съежившаяся кучка людей у угольных ям «Лэди Элеоноры». Немой и сумрачный сугроб из поникших синих блуз, погасших папирос, заскорузлых пальцев и безрадостного молчания. Это те, до которых никому нет дела…
Российский консул в Батуме сказал бывшей команде отобранных нами пароходов:
— Вы называете себя русскими, но я вас не знаю. Где были вы тогда, когда Россия изнемогала от невыносимых тягостей неравной борьбы? Вы хотите остаться на прежних местах, но разве не вы разводили пары, поднимали якоря и вывешивали сигнальные огни в те грозовые часы, когда враги и наемники лишали обнищавшие советские порты их последнего достояния? Быть гражданином рабочей страны — эту честь надо заслужить. Вы не заслужили ее.
И вот — они сидят у угольных ям «Лэди Элеоноры», запертые в клетку из дождя и одиночества, эти люди без родины.
— Чудно, — говорит мне старый кочегар, — кто мы? Мы русские, но не граждане. Нас не принимают здесь и выбрасывают там. Русский меня не узнает, а англичанин, тот меня никогда не знал. Куда податься и с чего начать? В Нью-Йорке четыре тысячи пароходов без дела, в Марселе — триста. Меня просят миром — уезжай, откуда приехал. А я тридцать лет тому назад из Рязанской губернии приехал.
— Не надо было убегать, — говорю я. — Бессмысленный ты кочегар, от кого бежал?
— Знаю, — отвечает мне старик, — теперь все знаю…
А вечером они, как грустное стадо, шли со своими котомками в гавань, чтобы погрузиться на иностранный пароход, отходивший в Константинополь. У сходен их толкали и отбрасывали баулы раздушенных дам и серых макинтошей. Багровый капитан с золотым шитьем на шапке кричал с мостика:
— Прочь, канальи… Хватит с меня бесплатной рвани… Посторониться. Пусть пройдет публика…
Потом их свалили на кучу канатов на корме. Потом канаты понадобились и их прогнали в другой конец парохода. Они болтались по палубе, оглушенные, боязливые, бесшумные, со своими перепачканными блузами и сиротливыми узелками. А когда пароход дал отходной гудок и дамы на борту стали кидать провожающим цветы, тогда старик кочегар, приблизившись к решетке, прокричал мне с отчаянием:
— Будь мы какие ни на есть подданные, не стал бы он над нами так куражиться, лысый пес.
(Письмо из Аджарии)
Эта многозначительная и неприметная борьба ведется со скрытым и глухим упорством. Она ведется везде — и на суровых склонах недосягаемых гор, и во влажных долинах Нижней Аджарии. В одном лагере стоит мечеть и фанатический ходжа, в другом — невзрачная избенка, зачастую без окон и дверей, с выцветшей надписью на красном флажке: «Трудовая школа». Через несколько дней я выеду в горы для того, чтобы на месте присмотреться к извилистой тактике борьбы за культурное преобладание, тем непостижимым зигзагам, которые приходится делать в этих глухих и оторванных от центра селах, насыщенных еще ядовитой и слепой поэзией феодализма и религиозной косности. Пока же я поделюсь с вами данными, которые я вынес из ознакомления с работой здешнего Наркомпроса.
Внедрение в человеческие души требует дальновидности и осторожности. В тяжких условиях Востока эти качества должны быть удесятерены, доведены до предела. Вот положение, не требующее доказательств. Но меньшевистские кавалеристы от просвещения рассуждали иначе. В поколебленное царство аджарского муллы они внесли прямолинейный пыл близорукого национал-шовинизма. Результаты не были неожиданны. Население возненавидело лютой ненавистью все то, что шло от власти. Государственная школа, объединявшая десятки сел, насчитывала десять-пятнадцать учеников, и в это время медресе ломилось от огромного изобилия детей. Крестьяне несли ходжам деньги, продовольствие, материалы для ремонта зданий. А меньшевистская школа хирела, пустовала, подрывая не только авторитет своих насадителей, это бы с полбеды, но и подтачивая веру в те азбучные основы культуры, которые несла с собой дореформенная школа.
Итак, меньшевики оставили наследство, проклятое наследство. Надо было с ним распутываться. Нелегкое дело. Недоверие в мусульманском крестьянстве было прочно разбужено, страсти накалены. Примитивная борьба за азбуку цепляла своими корнями огромные задачи политического просвещения. Съезд аджарских исполкомов уяснил себе это в полной мере. Он продиктовал тот метод внимательной постепенности и идейного соревнования, который теперь начинает приносить свои плоды.