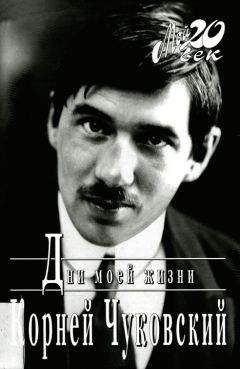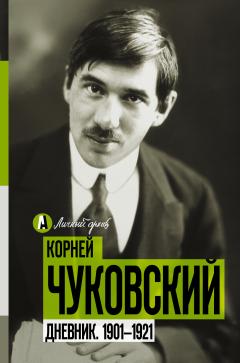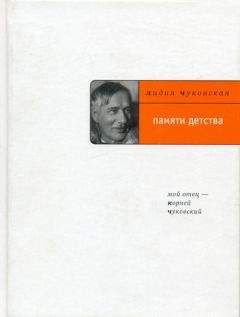12 октября. И.Е. был у меня, но я спал. Он расходится с Нат. Борисовной.
Суббота. Ночь. Не сплю. Четвертую неделю не могу найти вдохновения написать фельетон о самоубийцах{4}. Изумительная погода, великолепный кабинет, прекрасные условия для работы — и все кругом меня работают, а я ни с места. Сейчас опять буду принимать бром. Прошелся по берегу моря, истопил баню (сам наносил воду) — ничего не помогло, потому что имел глупость от 11 до 5 просидеть без перерыва за письменным столом. Ах, чудно подмерзает море. И луна.
В среду был у И.Е-ча. Натальи Борисовны нет. Приехали: Бродский, Ермаков, Шмаров; И.Е. не только не скрывает, что разошелся с Н.Б., а как будто похваляется этим. Ермаков шутил, что нас с М.Б. нужно развести. И.Е. вмешался:
— Брак только тот хорош, где одна сторона — раба другой. Покуда Н.Б. была моей рабой (буквально!), сидела себе в уголке, — все было хорошо. Теперь она тоже… Одним словом… и вот мы должны были разойтись. Впрочем, у нас был не брак, а просто — дружеское сожитие[14]. И с этих пор наши среды… Господа, это вас касается… Я потому и говорю… примут другой характер. Я старик, и того веселья, которое вносила в наши обеды Н.Б., я внести не могу. Не будет уже тостов — терпеть их не могу, — каждый сможет сесть, где вздумается, и есть, что вздумается, и это уже не преступление — помочь своему соседу (у Н.Б. была самопомощь, и всякая услуга за столом каралась штрафом: тостом). Можно хотя бы начать с орехов, со сладкого — если таковое будет, — и кончить супом. Вот, кстати, и обед.
Заиграла шарманка.
— Зачем завели шарманку? Больше не нужно заводить!
Потом И. Е. пошел меня проводить и рассказывал, как Н.Б. понесла на своей лекции 180 р. убытку — читала глупо — очень глупо! — но ей и сказать нельзя — дурацкое самолюбие — вот болезнь: непременно хочет славу — и т. д. За столом читали статью О.Л.Д’Ора ругательную о Наталье Борисовне.
Читал длинную записку Леонтия Бенуа о введении в Академии церковной живописи. Не сомневается, что записку составил Беляев и что Бенуа проведет на это место Беляева. Говорили о том, что нужно иконы писать с молитвою. Подхватил:
— Да, да! Вот Поленов, когда писал Мадонну, так даже постился (я присутствовал), и вышла… такая дрянь!
12 ноября. Бобины слова: силокатка — лошадка. Лелядь — лошадь. Как Боба долго начинает плакать. Сегодня говорит: это вкуное. Я говорю: не понимаю. У него сначала все в лице останавливается, потом начинает чуть-чуть (очень медленно) подгибаться губа — выражение все беспомощнее — и только потом плач. Очень обижается, когда не понимают его слов.
Лида про пятую заповедь — «Вот бы хорошо: чти детей своих!» Ее любимые книги: «Каштанка» и «Березкины именины» Allegro. Она читает их по 3 раза в день.
18 января. Репин о И. Е. Цветкове, московском собирателе: скучный и безвкусный; если, бывало, предложишь ему на выбор (за одну цену) две или три картины, непременно выберет худшую.
Я спросил его, как его встречали в Москве? Он: «Колокольного звону не было!» Рассказывал, как Николай II наследником посетил выставку картин. Сопровождал его художник Литовченко. Увидел картину с неразборчивой фамилией. — Кто написал? — Вржещ, Ваше Высочество! — выпалил Литовченко. Тот даже вздрогнул, и впоследствии с каким-то Великим князем забавлялись:
— Вржещ, Ваше Высочество! — кричали друг другу.
21 февраля. Вчера в среду И. Е. Репин сказал мне и Ермакову по секрету: «только никому не говорите» — что он, исправляя, «тронул» «Иоанна» кистью во многих других местах — «чуть-чуть» — «не удержался»{1}.
О Волошине: «Возмутила бессовестность, приноравливается к валетам{2}. Но я ему не говорил, что не принял бы билета, я сказал:
— Пожалуйста, ничего не меняйте. Не стесняйтесь. Говорите так, как будто меня нет.
Он: — Я, если бы знал, что вы пожалуете, прислал бы вам почетный билет.
Я: — Ну зачем же вам беспокоиться.
И вообще мы беседовали очень добродушно».
22 февраля. Коленька в моей комнате пишет у меня чистописание «степь, пенье, век» и говорит: «Самое плохое во мне — это месть. Я, например, сегодня чуть не убил ломом Бобу. А за что?! Только за то, что он метелочку не так поставил. Когда я вчера ударил Лиду, ты думаешь — мне не было жалко? Очень было жалко, я очень раскаивался». Буквально.
25 февраля — или 26-е? — словом, понедельник. Был вчера у И.Е. — А у нас какой скандал на выставке. (Сидит с Васей и пьет в темноте чай.) — Что такое? — Этот дурак! (Машет рукой.) То есть он не дурак — он умнейшая голова — и… — Оказывается, третьего дня, когда выставку передвижную уже устроили, звонок от цензора: — Ничего нет сомнительного? Тогда открывайте. — Есть Репина картина. — Как называется? — «17 октября». — Как? — «17 октября», — А что изображено? — Манифестация. — С флаами? — С флагами. — Ни за что не открывать выставку. Я завтра утром приеду посмотрю. «А я, — рассказывает Репин, — сейчас же распорядился: повесить рядом с моей картиной этюдики Великой княгини Ольги Александровны и попросил Жуковского, который купил у меня („за наличные“) „Венчание Государя Императора“, — тоже сюда, рядышком.
Великая княгиня была, смотрела мое „17 октября“, ничего не сказала, — улыбнулась на моего генерала (который в картине Фуражку снимает), — и назавтра, когда приехал цензор, ему все это рассказали, показали — разрешил».
— Слышали, адрес мне подносят — зачем? — дураки! — т. е. они не дураки, они умнейшие головы, но я… чувствую — я такое ничтожество…
— За вырезки газетные счет: 43 рубля в месяц. Скажу Наталье Борисовне: довольно. Надоело. И я — пройду мимо стола, где сложены вырезки, — и целый час другой раз потеряю. Довольно!
В 9½ час. вечера пришел с Васей к нам. Сел за еду.
— Ах, маслины, чудо-маслины! Огурцы — где вы достали? Ешь, Вася, огурцы. Халва — с орехами, и, знаете, с ванилью, — прелесть.
У И.Е. два отношения к еде: либо восторженное, либо злобное Он либо ест, причмокивает, громко всех приглашает есть, либо ненавидит и еду, и того, кто ему предлагает; скушайте прянички! — искривился: очень сладкие, приторны, черт знает что такое…
Как он не любит фаворитизма, свиты, приближенных. Изо всех великих людей он один спасся от этого ужаса. Если дать ему стул или поднять платок, — он тебя возненавидит, ногами затопает. Я [в] эту среду — черт меня дернул сказать, когда он приблизился к столу: — Садитесь, И.Е., — и я встал с места. Он не расслышал и приветливо, с любопытством: — Что вы говорите, К.И.? — Садитесь. — Его лицо исказилось, и он произнес такое, что потом пришел извиняться.
20 марта, среда. Приехал из «Русской Молвы» сотрудник — расспросить Илью Ефимовича о Гаршине. Но И.Е. ему ничего не сказал, а когда сотрудника увлекла Наталья Борисовна и дала ему свою статейку, И.Е. за столом сказал:
— Помните, К.И., я вас в первое время — в лавке фруктовой — все называл «Всеволод Михайлович». Вы ужас как похожи на Гаршина. И голос такой мелодический. А знаете, как я с ним познакомился? Я был в театре — кажется в опере — и заметил черного южанина — молодого, — думаю: земляк (у нас много таких: мы ведь с ним из одной губернии, из Харьковской), и он на меня так умильно и восторженно взглянул; я подумал: должно быть, студент. Потом еще где-то встретились, и он опять пялит глаза. Потом я был в Дворянском собрании (кажется), и целая группа подошла юношей: позвольте с вами познакомиться, и он с ними.
— Как же ваша фамилия?
— Гаршин.
— Вы Гаршин?!?
Так мы с ним и познакомились.
19 марта И.Е. повел меня и Марию Борисовну наверх и показал новую начатую картину «Дуэль». Мне показалась излишне театральной, нарочито эффектной. Я чуть-чуть намекнул. И что же? На следующий день он говорит: — А я переделал все ошибки. Хорошо, что я вам тогда показал. Спасибо, что сказали правду, — и т. д.
Я работаю много — и не знаю, что выходит, но эта квартира вдохновляет меня — очень удобно. Вчера работал 12 час. От 5 ч. утра до 6 ч. веч. с перерывом в 1 час, когда скалывал лед. Все не могу справиться с Джеком Лондоном для «Русского Слова»{3}.
Вчера в воскресенье — [6] апреля был И.Е. Пошел ко мне наверх — лег на диване — впервые за все время нашего знакомства, — а я ему читал письма И. С. Тургенева к Стасюлевичу. Прежде чем я начал читать, он сказал:
— «Любезнейший» — что это за привычка была у Тургенева начинать письмо словом «Любезнейший»! Василий Васильевич Верещагин так обиделся, что разорвал все письма Тургенева: какой я ему любезнейший! Эх, у меня было прекрасное письмо от Тургенева: «Любезнейший Репин!» Он писал мне о том, что m-me Viardot не нравится, как я начал его портрет, и я, дурак, замазал — и на том же холсте написал другой.