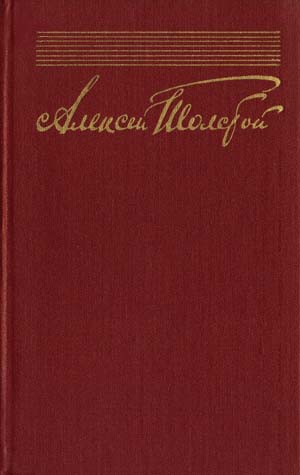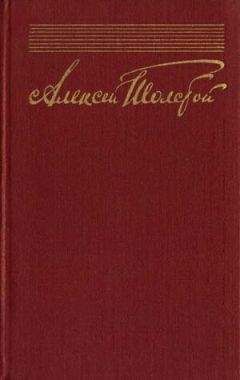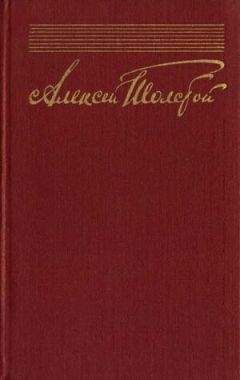оттолкнул от себя эту шутиху – барскую барыню.
Сравните ее с литературой второй мировой войны, наших дней, когда все устремления советской литературы – подняться до уровня моральной высоты и героических дел русского воюющего народа. Литература наших дней – подлинно народное и нужное всему народу высокое гуманитарное искусство. Она круто идет на подъем. Это стихи Твардовского, Симонова, Исаковского, Сельвинского, Суркова, последние стихи Анны Ахматовой, сатиры Маршака, ленинградские рассказы Николая Тихонова, произведения Эренбурга и Корнейчука, рассказы Соболева, Паустовского, очерки Бориса Горбатова, повести и очерки Василия Гроссмана, покойного Полякова, военные рассказы непрофессиональных писателей, подписанные майорами или полковниками, «Радуга» Ванды Василевской и многое другое.
Перед огненным лицом Октября растерялись значительные слои интеллигенции, не в силах понять, что же именно новое несет в жизнь рабочий класс, и отшатнулись от революции. Однако все лучшее, что было в нашей интеллигенции, – в литературе в частности, – пошло с революцией. Хорошо тогда (в январе 1918 года) сказал Александр Блок: «Дело художника, обязанность художника видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит разорванный ветром воздух».
А было задумано:
«Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым, чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью».
Это настроение всеочищающей революционной метели, ворвавшейся в лживую и угрюмую жизнь, и вложил Блок в поэму «Двенадцать». В ней, однако, больше – от поэтического устремления, чем от исторического понимания.
Вместе с Октябрем ворвался в литературу образ народа. Он пришел, как нечто слитное, массово целое, в котором неразличимы личности. Личность тогда казалась неотделимой от буржуазного индивидуализма и отрицалась вместе с ним. Таков этот человек-масса в «150 000 000» Маяковского, в повести «Падение Даира» Малышкина и отчасти в «Железном потоке» Серафимовича.
Момент отрицания всего прошлого литературного наследия, заклеймения его дворянским и буржуазным индивидуализмом и классово-враждебной литературой принимал в те ранние годы уродливые формы. В литературу Октября пришли люди из буржуазной среды, и разночинная интеллигенция, и молодежь прямо с полей гражданской войны, с фабрик и заводов, селькоры, сельские учителя и другие. Была и значительная группа людей, которые противоречиво совмещали с публицистической революционной страстностью враждебные революции настроения.
Это отрицание литературного наследия сильнее всего выявилось в Пролеткульте, а затем в РАППе. Проявилось стремление противопоставлять пролетарскую культуру всей культуре человечества, и отсюда – тенденция вбивать осиновые колы и жечь музеи. Это была цеховщина и махаевщина, немало наделавшая бед в нашей литературе, немало искривившая писательских биографий.
Все премудрости пролеткультовских и рапповских «теоретиков» не шли дальше сортировки произведений и самих писателей на черных и белых, на буржуазных, которых надо изничтожать всеми способами, и на пролетарских, которых нужно прославлять. Многое тут было от невежества, от старого русского нигилизма, но была тут и прямая работа фашистских агентов, пролезших в литературу. Они подменяли пафос революционной переделки мира крикливой и угрожающей демагогией.
Но сила литературного движения революции была в том, что оно жило одним биением сердца с народными массами, и в том, что в своих основных линиях оно направлялось партией и лично Лениным и Сталиным. Советская литература в своем художественном развитии от человека-массы пришла через четверть века к индивидуальному человеку, представителю воюющего народа, от пафоса космополитизма, а порою и псевдоинтернационализма – пришла к Родине, как к одной из самых глубоких и поэтических своих тем.
В центре литературной жизни двадцатых годов стоит Маяковский. Он вошел в литературу после 1912 года на гребне подъема рабочего движения в России и отразил в своем творчестве именно это нарастание революции. Вначале его революционный протест ограничивался рамками эстетической борьбы кружка футуристов. Октябрь дал подлинный размах его творчеству. Именно в борьбе за социализм он вырос в народного поэта-трибуна, которому «улицы – наши кисти, площади – наши палитры». То, чего не дано было сказать рванувшемуся к революции Блоку – сказал Маяковский: мощными ударами переделать, перестроить лживый, обезображенный мир. Никто, как Маяковский, так не выразил душу революции.
Байрон наполнил начало XIX века образами мятежного протеста: богоборца, одинокого свергателя злых демонов мира. В начале XX века с иной, но не меньшей силой зазвучал голос поэта пролетарской революции. «Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм». Маяковский создал новый грандиозный стиль революционной поэзии, – огромные полотна, написанные размашистой и разгневанной кистью. Это была поэзия восстания, где звучал шаг наступающего пролетариата: «Левой, левой, левой…» Это была поэзия вытянутой вперед, указывающей руки, как ответа на вопрос – что делать человеку сегодня, сейчас, немедленно, если он – с пролетарской революцией. Вот откуда то огромное впечатление, которое произвел он на революционную и передовую поэзию во всем мире, и глубокое влияние его на поэтов всех литератур в Советском Союзе. Вот почему Сталин назвал Маяковского «лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи».
О Маяковском можно сказать то же, что Герцен сказал о Белинском: «Это был „человек экстремы“, человек крайностей, именно, по-русски: самых левых, самых крайних крайностей. Советская культура строится на известном сочетании новаторского и преемственного, на критическом пересмотре истории с тем, чтобы новое росло на здоровых глубоких корнях. В максимализме Маяковского трубит фанфарой чисто русская тема становления превыше всего общенародного размаха в будущее, без сожаления о прошлом: „Славлю отечество, которое есть, но трижды, которое будет“».
Маяковский неотвратимо заполняет наше воображение, когда он в творческом порыве стремится «переделать все», и он меньше говорит нашему раненому сердцу, когда оно в дни войны болеет болью о России и в этой боли находит гнев, и самоотвержение, и богатырскую силу.
Советская художественная проза и в значительной мере драматургия вышли из темы гражданской войны. Первое поколение советских писателей, например «Серапионовы братья», пришло в литературу, в непосредственную школу Максима Горького прямо с фронта. Они принесли с собой, как простреленные шинели на плечах, романтику гражданской войны, героику народа, с отчаянной отвагой разметавшего белые армии.
Лучшие произведения того первого этапа советской литературы напоены поэзией героики пролетарской войны: «Чапаев» Фурманова, «Железный поток» Серафимовича, «Виринея» Сейфуллиной, обаятельная поэма Багрицкого «Дума про Опанаса», «Партизанские повести» и «Бронепоезд» Всеволода Иванова, «Города и годы» Федина, «Любовь Яровая» Тренева, «Разгром» Фадеева, «Первая конная» Вишневского, «Улалаевщина» Сельвинского и многое другое. «Педагогическую поэму» Макаренко – поэму о героическом перевоспитании человека – тоже можно отнести к романтике этих лет.
Существенно отметить, что позже, в тридцатых годах, героическая тема гражданской войны послужила многим советским писателям, чтобы выразить, но уже в новом идейном повороте, тот патриотический подъем, который нарастал в нашей стране в связи с построением обороны, в предвидении второй мировой