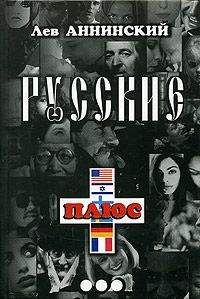Вопль о границах, о межах — в безграничном просвисте сквозящих «проходных дворов», зияющих дыр, незатыкаемых промежутков. Морок маргинальности: ползла империя «пятном на скатерти», растекаясь и впитываясь, пока на гигантском пространстве не сравнялось бессилие Центра идти дальше с бессилием окружающих народов идти на Центр. Тут стали чертить на песке границы, вбивать колышки, колы, колья, тянуть проволоку: сделалась Империя.
Национальная? Русская?
Никак нет.
Я же сказал: русских не было; были — славяне, финны, татары, немцы, литовцы, кавказцы. Русские — это те, что здесь смешались, те, что здесь остались, те, что на это согласились: назвали себя русскими.
Империя не была национальной. Ни по замыслу, ни по исполнению. По замыслу: не «русская» — «Московская», потом «Российская»: мировой город, третий Рим — перехватчик кафолической, вселенской, всемирной идеи. По исполнению: из Центра — циркулярно — импульсы во все стороны: до Балтики и Крыма, до Варшавы и Аляски: присоединять и удерживать; но и на Центр же накатывались — циркульно — со всех сторон… зачем? Грабить? Грабить, конечно… когда усидеть не надеялись. А надеялись бы усидеть — так и сели бы! И все эти рейды — от польского похода бунташных времен до набега всякого очередного «Гирея» — были попытками вовсе не уничтожить Москву, а «стать Москвой». Как Аларих когда-то, наместник Иллирии «из рода Балтов», вовсе не уничтожить хотел Рим, а — овладеть им.
Так что надо бы нам переступить вполне понятную встречную враждебность к Тохтамышу, из-за которого сгорели наши бесценные древние летописи, и против всех Лжедмитриев, из-за которых чуть не пропала наша бесценная новоиспеченная династия, и понять: то была неотвратимая, геополитическая тяга народов осуществить центрирование жизни, общий порядок, ибо иначе — все истекало кровью. Удалось бы это татарам — и продолжили бы они наши летописи своими. Удалось бы полякам — сидели бы Ягеллоны на троне Романовых, славянской-то крови в Ягеллонах было не меньше. Ну, сложилась бы империя «Русско-Литовская». Либо «Московско-Казанская». И жили бы люди. Воевали-то — считанные годы, а «хорошовались», обнимались-целовались при встречах, торговали и женились, смешивались и пребывали — века.
Так что не знаю, кто от кого отделялся и отделывался бы сегодня: Ландсбергис от нас или мы от Ландсбергиса, и кто бы в Казани отделял в водке «спирт от воды»… то есть пытался бы этнически разделить начисто татар и русских, когда у тех и у других в основе — чуть не половина общей половецкой крови.
Да и вообще кровь тут ни при чем. «Еврей — это тот, кто называет себя евреем». Русский — тот, кто считает себя русским. Американец — тот… и т. д.
Если уж с евреями, помешанными на идее материнской крови, это так (с папашиной-то стороны мог оказаться кто угодно), то русским и, полтысячелетия спустя, американцам сам бог велел не в составе крови искать национальную идентификацию, а в ощущении общей судьбы.
Такая судьба. Счастливая? Несчастная?
Не знаю. Я фаталист. Мне осточертел эпитет «многострадальная» при всяком упоминании о России. Строго говоря, немногострадальных народов нет. Ни в природе, ни в истории. Жизнь вообще есть страдание, которому единственный противовес — понимание смысла страдания.
Но революция — «ужас», не так ли, господа?
Но и то, в результате и против чего произошла революция, — тоже ужас, не так ли, товарищи?
Какой смысл — в смене ужаса ужасом, какой смысл в революции?
Никакого. Тут не смысл — тут неизбежность. А смысл только тот, чтобы в условиях неизбежности революции сохранять человеческие ценности.
Конечно, с нашей теперешней точки зрения, ценности искажались. Но с тогдашней, с их точки зрения, с точки зрения наших отцов и дедов, — искажены были ценности в «эксплуататорском обществе», так что революция возвращала смысл человеческому существованию. Где гарантии, что спустя еще два-три поколения маятник не пойдет снова в ТУ сторону, и революция не будет еще раз «перечитана»? Для этого нужно только одно: чтобы в сытом и благополучном обществе «угнетенные» оказались в исчезающем меньшинстве (а мы сейчас изо всех сил хотим выцарапаться в такое сытое общество), и чтобы солидарность с сирыми и убогими стала в обществе хорошим тоном. А если эта сирофилия и убогомания накладываются на очередной пик нестабильности истеблишмента, — тогда вы получаете в сытой и благополучной Франции 1968 года взрыв левацких настроений, любовь к Троцкому и сожжение университета. Но и без срыва — может тлеть и накапливаться. Как в сегодняшней сытой и благополучной Америке, где интеллигенция… ну, это мы ее так по-русски называем, а там — интеллектуалы, «яйцеголовые», «писи», сиречь P-C, political correction — политически скоординированные инакомыслящие, — они, думаете, на чьей стороне? Государства? Нет, на чьей угодно, только не государства. На стороне Саддама Хусейна, на стороне гомосеков и спидоносцев, на стороне любой секты против любой ортодоксии, на стороне любого бунта против «их говенного благосостояния».
Так что это в крови, в генах. У всех, не только у нас.
Стало быть, революция была неизбежна?
Была неизбежна.
Кто ее совершил? Никто. «Сама совершилась».
Задним числом вмыслили в демиурги — Ленина. Но он революцию не сделал — он ее оседлал, он оказался на гребне, на острие. Ненадолго оказался, непрочно оседлал, едва держался, а потом и не удержался. Только и успел, напоровшись на самоочевидное безумие коммунистической доктрины, от доктрины отказаться, ибо действовала она — только в военном варианте, только для войны годился коммунизм, а как только пахло миром, — с ним нечего было делать. Так НЭП и стал сигналом отказа, больше Ленин ничего не успел, разве что перед смертью крик отчаяния издал (в последних «страничках», «записках»), разве что в преемниках своих смутно опознал уголовников, да ничего изменить не мог. И выходит, все наследие его практически было «мгновенное»: как взять власть (когда брошенная валяется) и как удержать ее (когда и другие бросаются поднять). Но как жить — он не только не успел почувствовать, но вряд ли и мог бы, потому что обламывалась тогда жизнь России в какую-то неведомую бездну.
Через бездну перебирались сомнамбулически, на стимуляторах, под наркозом, в страшнейшем самогипнозе; имя этому самому гипнозу коммунистическая мечта. Иначе не перейти было бездну двух мировых войн и лагерной (военно-лагерной) «передышки» между ними. Иначе не сдюжить было этого ужаса самозаковывания в металл, в цепи: в броню индустриализации, в кандалы коллективизации. Иначе не выдержать было сгона мужиков с земли, не прокормить гигантские армии: военную, трудовую, не оправдать повальную военизацию народа. На этой-то военизации мы теперь и надорвались, вколотив живую силу народа в броню, в шестьдесят тысяч танков. На это и напоролись, выучив военному искусству миллионы людей, прогнав через армейский всеобуч все мужское население державы, так что теперь любая ватага боевиков, под любым флагом собравшаяся, захватившая любой арсенал, любой «ствол» взявшая в руки: от автомата Калашникова до ракеты «земля-земля», — знает, как с этими железками обращаться и умеет вести боевые действия на уровне солдатской профессиональности, — таким образом любая гражданская «склока» грозит стать гражданской войной.
Фатум: готовился народ к тотальной отечественной брани, к защите от внешнего супостата, а ударился — о свою же агрессивность; пошла взрывная сила внутрь, рвет народ изнутри, кромсает отечество на части.
Доведись какому-нибудь лидеру, из нынешних, пусть безвестному, оседлать ситуацию и проскочить сквозь абсурд подступающего междоусобия к мало-мальской «тишине» народного успокоения, к какому-нибудь сносному «рынку», то есть к сытому прилавку, к относительной стабильности, к мирному стойлу, — и спасенные от самих себя люди задним числом в боги произведут такого деятеля, осанну вострубят ему, в новый мавзолей положат… Так где-то пролегает же в хитросплетениях нашего жизненного лабиринта та дорожка, которая, как потом станет ясно, «была спасительной», то есть «вела к цели». Но разгадка-то не в дорожке, разгадка в почве, по которой она бежит, в наклоне, по которому течет народ, а может, в том, что накопившаяся новая агрессивность не вся еще вышла. Выйдет — успокоимся. Разгадка, одним словом, в общей геополитической ситуации.
Так что если бы на «единственно правильном пути» в 1917 году оказался бы не Ленин, а кто-нибудь другой, то делал бы тот другой приблизительно то же самое… ну, с другими расстрельными списками, с другим порядком экзекуций и экспроприаций, разверсток и налогов. Кстати, «продразверстка» словцо не большевистское, а — Временного правительства.
Так что на вопрос: что сталось бы с Россией, если бы не Ленин, ответ уже дан историей: без Ленина сталось то, что явился Сталин и другие ленинские ученики. И сделали они именно то, что обещали. А обещали они именно то, чего хотел, о чем смутно мечтал народ, именно то, что он лелеял в подсознании под наркозом «коммунизма». И достигнуто было: