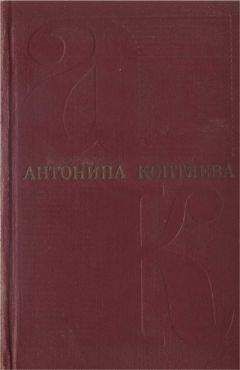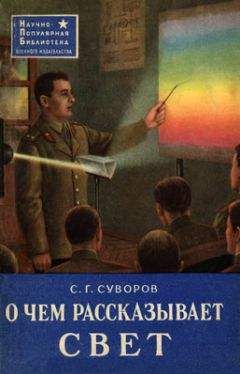От квартирантов во флигеле — четыре рубля, за половину в доме — пять рублей. Вот и проживи с тремя детьми на руках! Чем накормить, как одеть? В зимнее время морозы сорок градусов — обычное дело, а в школу ходить — ни пальтишка, ни валенок. Две зимы мне пришлось пропустить, хотя училась я отлично. Достаточно сказать, что моя «спортивная карьера», когда мне исполнилось тринадцать лет, сломалась из-за того, что не нашлось двух рублей для покупки майки, трусов и тапочек… Где же было справиться с более серьезными нуждами?
Летом 1923 года брат Леонид вместе со старшим сводным братом ушли на Алдан в Томмот. Там тогда «фунтили» — намывали по нескольку фунтов золота. Но в течение полутора лет Леонид, ленивый и беспечный, не послал нам ни одного золотника. Выходили «в жилуху»[3] копачи-старатели, приносили знакомым письма, золото. Перед тем как выйти со двора, мать мыла возле колодца ноги и босиком уходила к приехавшим «томмотцам». Мы с сестренкой нетерпеливо ждали ее возвращения, и до чего больно сжималось сердце при виде ее хмурого лица!
Зимой 1925 года она надумала сама отправиться на Алдан.
— Наймусь мамкой в артель. Буду шить, стирать, стряпать старателям.
Что оставалось делать? Всю осень мы копали картофель на чужих огородах, отваливали голыми руками уже мерзлую сверху землю, получая за работу не деньгами, а натурой. Нужда выживала из дому нашу родную.
И вот стою на берегу и с мучительной тоской провожаю взглядом мать, уходящую пешком в неведомо далекий таежный край. В телогрейке и подшитых валенках, она шагает за грузовым транспортом вверх по заснеженной реке, становясь все меньше и меньше. А я гляжу и гляжу ей вслед, и горло перехватывается удушьем безысходного горя.
Потом мы с сестрой переехали на Третью улицу в домик, поставленный временно дедом Алексеем Исаковым на пустыре, напротив старой избы.
Бабушка была тоже крутого, властного нрава. Нас она презирала, называя «дворянками» за то, что мы ели не из одной миски, а с тарелок и чистили зубы после еды, хотя есть нам часто было нечего. Она так же, как и мама, никогда не ходила в церковь, зато не пропускала ни одного митинга, и соседи звали ее Исачихой-комиссаршей. Однако в политике она разбиралась плохо, а невесток тиранила, как настоящая Кабаниха. После ухода матери на Алдан мы жили возле Исаковых сами себе хозяева на своих харчах. Я в пятнадцать лет являлась главой семьи.
С полгода от матери не приходило никаких вестей (ни писем, ни денег), и это в ожидании голодной зимы заставляло меня не покладая рук работать то на своем огороде, то на китайских маковых полях. Дома оставались перешедшая к нам с маленьким сыном тяжело болевшая тогда тетка Анна, наша общая любимица, и густобровая, крупная телом, но неповоротливая младшая сестренка.
Поденщина у китайцев-огородников была нелегкой. Подрезка маковых головок и сбор млечного сока (который, постепенно высыхая в мелких блюдах на солнце, превращался в густую коричневую тянучку — опиум) начинались рано утром. И целый знойный день — в дождь работать нельзя — переступаешь с ноги на ногу, боком, боком, боком вдоль рядов растений, быстрым движением снимая в жестяную узкую баночку каплю за каплей, каплю за каплей.
К вечеру пятки начинают гудеть, подмышки стягивает болью, но все идешь и идешь с баночкой, надетой на средний и безымянный пальцы левой руки. Каплю за каплей… Раз банка, две, три, четыре (пять — это уже дневной предел для опытного сборщика), с ноги на ногу до захода солнца, пока не падет роса. И тридцать копеек оплаты — уже счастье, а барышни зейские косились: считали зазорным для девчонки такую работу, да еще и обед в китайской фанзе, пропахшей бобовым маслом. Но что мне было до кривых усмешек — когда дело в руках, чувствуешь себя твердо.
Весна и лето стояли, как обычно, жаркие. Земляника, очень крупная у нас и сладкая, так и таяла во рту. Грибов уродилось на диво. Везде добыча, и я, принуждая и сестренку, собирала запасы. Рыжеватые волосы, собранные без затей в пышный тяжелый «гребень», совсем выцвели, руки и ноги обветрились и загорели до черноты, только светлоглазое лицо никак не принимало загара, смешно отличаясь от будто бы грязной шеи.
Иногда тетка Манефа водила нас в городской сад, где по вечерам играл оркестр и вокруг «собрания» гуляли зейские «кавалеры» и «барышни». Мы к ним близко не подходили, а, потоптавшись босиком по темным углам, посмотрев из-за кустов на разодетых барышень, возвращались домой по чужим и своим огородам с мокрыми от росы подолами, с ногами, облепленными песком. Если бы это увидела мама!.. Бабка для проверки подходила по вечерам к окнам, прикладывая ладонь к отсвечивавшему стеклу, всматривалась… Когда вместо нас лежали под одеялами свернутые пальтишки, то другая потатчица, добрейшая и милейшая тетя Анна, притворялась крепко спящей.
В 1926 году, опять же в поисках заработка, попросту куска хлеба, я ушла на Алданские прииски в Якутию. Оставила седьмой класс школы и отправилась в тайгу пешком за обозом по занесенному снегом зимнику, где летом ни пройти, ни проехать. И это было очень интересно для девчонки шестнадцати лет.
Шли по зимнику запряженные в сани верблюды, жалобно стонавшие на тяжелых подъемах, бойко катили оленьи нарты; кости и трупы лошадей, сдохших от бескормицы, торчали из сугробов, как вехи великого пути вольницы, охваченной золотой лихорадкой. В тесных и темных, наспех срубленных зимовьях, с нестругаными накатами потолков и земляными полами, народу — битком, и все разговоры о фарте, голодовках, спиртоносах, шулерах. На каждом зимовье я зорко осматривалась: боялась разминуться в пути с матерью. Она работала на Алдане поломойкой в конторе «Союззолото», но, по дошедшим слухам, собиралась вернуться на Зею. На письмо мое она не ответила, и я отправилась в тайгу на свой страх и риск.
Ехали навстречу «фартовые», везли желтенькие замшевые мешки-тулуны, набитые золотым песком. Уже введена была государственная монополия на драгоценный металл, но пьяному да еще старателю-хищнику — море по колено.
«Куда тебя несет, девка! Пропадешь! — говорили они. — Айда с нами обратно в жилуху». А один все соблазнял тем, что купит патефон и гору пластинок и буду я с утра до вечера, нарядная, слушать музыку. Это смущало, сердило, заставляло прятаться на общих нарах за спину знакомого возчика, дюжего и степенного.
Алдан, а потом Москва. Зея осталась позади, как грустный сон. Но вот через десятки лет смотрю снова на зейские улицы и волнуюсь до боли, но не от умиления при воспоминаниях о «золотом детстве», а от свидания с молодостью своей матери, когда еще так остро горе утраты, от любви к родному краю и вдруг осознанного ощущения всегдашней неразрывной связи с ним. Будто положили дрова на тлеющие, подернутые пеплом угли и, ярко все озарив, вспыхнул костер.
Со строителями Зейской ГЭС отправилась смотреть место створа будущей плотины. Машины «газики» бегут по еще не осевшему шоссе мимо проточного озера Истока, на берегах которого росли раньше очень крупные ирисы с совершенно бархатными темно-лиловыми лепестками, мимо старого кирпичного завода и китайского кладбища, где стоят до сих пор белоногие березовые рощи, где воздух весною напоен нежным дыханием ландышей и забавно пестрых, лопоухих венериных башмачков. А что тут творится в июне, когда горные распадки и луга покрываются буйными, по пояс, травами! Повсюду так и светятся звездчатые раструбы ярко-красных саран и желтых лилий, манят голубые с золотыми сердцевинами крупные колокольчики, пышные кремово-белые кашки с листьями, сверкающими в воде, как чистое серебро. Нарвешь, бывало, букет и несешь его в охапке, точно сноп.
Проезжаем нагорьем над верхним, Татарским краем города. Этот край, Заречная сторона, Третья улица, — где жили дед и бабка Исаковы, — и Четвертая славились раньше лихими уличными драками, в которых толпы парней и мужиков мотались, словно вихрем подхваченные, сшибались грудь с грудью, пускали в дело не только кулаки, но и колья, а иногда в пылу сражения выхватывали из-за голенищ ножи.
Сейчас избы Татарского края, пугливо прижмурясь, смотрят на то, как ложатся набок молодые заросли тонких берез, как масса бульдозеров, экскаваторов и самосвалов начинает разборку и выравнивание верхней береговой террасы.
— Тут закладывается город для строителей. Представьте себе, как будут выглядеть в таком красивом месте многоэтажные дома! Таежные энергетики получат квартиры со всеми удобствами. Тогда их отсюда не выманишь, пожалуй, — говорит Владимир Васильевич Конько, главный инженер Зейской ГЭС, приехавший сюда из Братска.
Конечно, отлично получится: здесь, у отрогов Тукурингра, благоустроенный молодой город, и меня зависть берет при мысли о его будущих жителях — строителях, а потом работниках тех фабрик и заводов, которые возникнут возле новой энергетической базы. И все это у нас, на Зее, где мы прежде буквально бились из-за куска черного хлеба!