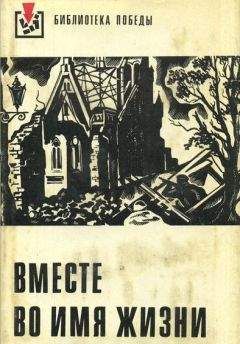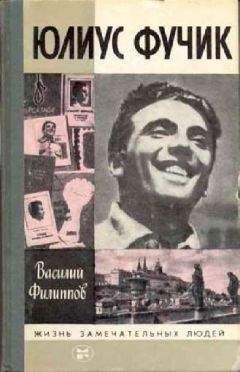его мучит какое-то горе. Он явно не хочет иметь ничего общего с нацистским режимом, которому служит и жертвам которого ежедневно оказывает медицинскую помощь. Он не верит в этот режим и в его долговечность, не верил никогда и раньше. Поэтому он не перевез в Прагу свою семью из Вроцлава, хотя мало кто из имперских чиновников упустил бы случай пожить всем домом за счет оккупированной страны. В то же время у него нет ничего общего и с народом, который ведет борьбу против ««нового порядка»; он чужд и ему.
Он лечил меня старательно и добросовестно. Так он поступает почти всегда и может воспротивиться отправке на допрос заключенного, слишком обессилевшего от пыток. Возможно, это делается для успокоения совести. Но иногда он не оказывает помощи там, где она совершенно необходима. Вероятно, от страха.
Это тип обывателя, одинокого, раздираемого страхом перед настоящим и перед будущим. Он ищет выхода. Это только жалкий мышонок в мышеловке, из которой нет надежды выбраться.
«Лодырь»
Это не просто человечишка. Но и не совсем еще человек. Нечто среднее. Он не понимает, что мог бы стать настоящим человеком.
Собственно говоря, таких здесь двое. Это простые, отзывчивые люди; вначале потрясенные ужасами, среди которых они очутились, они как бы онемели, потом им страстно захотелось выбраться отсюда. Но они не самостоятельны и поэтому скорее инстинктивно, чем сознательно, ищут поддержки и руководства тех, кто вывел бы их на правильный путь; они помогают тебе, потому что ждут от тебя помощи. Было бы справедливо оказать им эту помощь сейчас – и в будущем.
Эти двое – единственные из всех немцев, служащих в Панкраце, – побывали также на фронте.
Ханауэр – портной из Зноймо, недавно вернулся с Восточного фронта, нарочно отморозив себе обе ноги. «Война человеку ни к чему, – несколько по-швейковски философствует он, – нечего мне там делать».
Хефер – веселый сапожник с фабрики Бати, проделал кампанию во Франции и бросил военную службу, хотя ему обещали и повышение.
– Эх, Scheisse! [79] – сказал он себе и отмахнулся рукой, как, вероятно, ежедневно с тех пор отмахивается от всех неприятностей, которых у него немало.
У обоих одинаковая судьба и одинаковые настроения, но Хефер смелее, самостоятельнее и целеустремленнее. Почти во всех камерах его зовут «Флинк».
Во время его дежурства в камерах наступает отдых. Делай что вздумается. Если он бранится, то щурит глаз, давая понять, что брань к нам не относится, просто ему надо убедить в своей строгости сидящее внизу начальство. Впрочем, он напрасно старается: он уже никого не проведет, и не проходит недели, чтоб он не получал взысканий.
– Эх, Scheisse! – машет он рукой и продолжает свое.
И вообще он скорей легкомысленный молодой башмачник, чем тюремщик. Можешь поймать его на том, что он весело, с азартом играет в камере в орлянку с заключенными. Иногда он выводит заключенных в коридор и устраивает в камере «обыск». Обыск затягивается. Если ты из любопытства заглянешь в дверь, то увидишь, что он сидит за столом, подперев голову руками. Он спит, спит крепко и спокойно; так ему легче всего спасаться от начальства, потому что заключенные стерегут в коридоре и предупредят о грозящей опасности. А во время дежурства спать поневоле захочется, если свободные от службы часы он посвящает девушке, которую любит больше всего.
Поражение или победа нацизма?
– Эх, Scheisse! Да разве такой балаган устоит?
Он не причисляет себя к нацистам. Хотя бы поэтому он заслуживает внимания. Больше того: он не хочет быть с ними. И он не с ними. Надо передать записочку в другое отделение? «Флинк» это устроит. Надо сообщить что-нибудь на волю? «Флинк» это сделает. Необходимо с кем-нибудь переговорить с глазу на глаз, поддержать колеблющегося и спасти таким образом от провала новых людей? «Флинк» отведет тебя к нему в камеру и посторожит с озорным видом, радуясь удачной проделке. Его часто приходится учить осторожности. Он не понимает окружающей его опасности. Не осознает всего значения того, что делает. Это помогает ему делать многое. И в то же время мешает его росту.
Он еще не человек. Но все-таки переход к человеку.
«Колин»
Дело происходило однажды вечером, во время осадного положения. Надзиратель в форме эсэсовца, впустивший меня в камеру, обыскал мои карманы только для виду.
Потихоньку спросил:
– Как ваши дела?
– Не знаю. Сказали, что завтра расстреляют.
– Вас это испугало?
– Я к этому готов.
Привычным жестом он быстро ощупал полы моего пиджака.
– Возможно, что так и сделают. Может быть, не завтра, позже, может, и вообще ничего не будет… Но в такие времена лучше быть готовым…
И опять замолчал.
– Может быть… Вы не хотите что-нибудь передать на волю? Или что-нибудь написать? Пригодится. Не сейчас, разумеется, а в будущем: как вы сюда попали, не предал ли вас кто-нибудь, как кто держался… Чтобы с вами не погибло то, что вы знаете…
Хочу ли я написать? Он угадал мое самое пламенное желание.
Через минуту он принес бумагу и карандаш. Я тщательно их припрятал, чтобы не нашли ни при каком обыске.
А после этого не притронулся к ним.
Это было слишком хорошо – я не мог довериться. Слишком хорошо: здесь, в мертвом доме, через несколько недель после ареста встретить человека в мундире не врага, от которого нечего ждать, кроме ругани и побоев, а человека – друга, протягивающего тебе руку, чтобы ты не сгинул бесследно, чтобы помочь тебе передать в будущее то, что ты видел, на миг воскресить прошлое для тех, кто останется жить после тебя. И именно теперь! В коридорах выкрикивали фамилии осужденных на смерть; пьяные от крови эсэсовцы свирепо ругались; горло сжималось от ужаса у тех, кто не мог кричать. Именно теперь, в такое время, подобная встреча была невероятной, она не могла быть правдой, это, наверное, была только ловушка. Какой силой воли должен был обладать человек, чтобы в такой момент по собственному побуждению подать тебе руку! И каким мужеством!
Прошло около месяца. Осадное положение было снято, страшные минуты превратились в воспоминания. Был опять вечер, опять я возвращался с допроса, и опять тот же надзиратель стоял перед камерой.
– Кажется, выкарабкались. Надо полагать, – и он посмотрел на меня испытующе, – все было в порядке?
Я понял вопрос. Он глубоко оскорбил меня. Но и убедил больше, чем что-либо другое, в честности этого человека. Так мог спрашивать только тот, кто имеет внутреннее право на это. С тех пор я стал доверять ему, это был наш