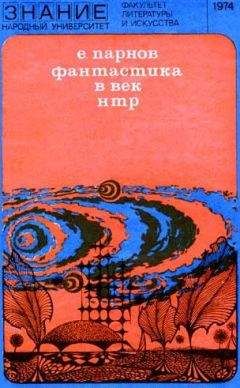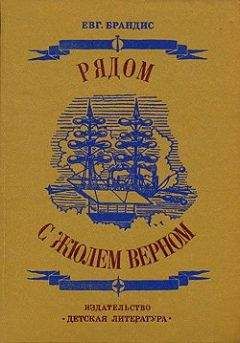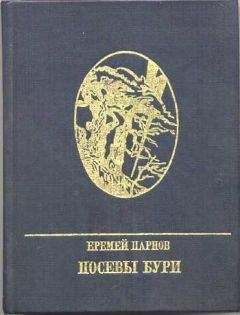"Литературные веяния, — пишут В. М. Жирмунский и Н. А. Сигал в послесловии к изданным АН СССР "Фантастическим повестям", — наложившие отпечаток на это произведение Казота, знаменуют кризис просветительского рационализма. Первые симптомы этого кризиса обнаруживаются в середине века, когда в литературе и в быту начинает проступать новое осмысление фантастики. Наблюдается растущее увлечение (в особенности среди высшего общества) алхимией, магией и кабалой, поиски "философского камня", интерес к сочинениям натурфилософов XVI–XVII веков — Парацельса, Якова Беме и к современной теософии (в частности к Сведенборгу)".
Да, это было время Калиостро и графа Сен-Жермена. Отголоски его долго звучали в литературе (вспомним "Пиковую даму" Пушкина и "Граф Калиостро" Алексея Толстого).
Творчество и личность Казота послужили материалом не только для легенд, но и для многочисленных литературных произведений. Автор «Смарры» Шарль Нодье написал даже биографический роман "Господин Казот", а поэт-романтик Жерар де Нервель включил в книгу «Иллюминаты» большой очерк о Казоте. Строки из "Влюбленного дьявола" часто цитировали Бодлер и Аполлинер.
Вообще дьявол стал частым гостем в литературе. Как носитель необходимых для развития и обострения сюжетных хитросплетений, он появляется и в романе Лесажа "Хромой бес", и в волшебных сказках Вильгельма Гауфа, и в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита", и в недавно опубликованном рассказе современного американского фантаста Р. Блоха "Поезд в ад". Это всего лишь прием, необходимый автору для создания тех или иных ситуаций.
"Ночная сторона" души человека, власть темных сил играющих им, и трубный зов рока — все это достигло совершенства в творчестве Гофмана, в мрачной, подчас иррациональной его фантастике. Ему было свойственно то особое фаталистическое мироощущение, которое получило потом название "драмы судьбы". Кстати, этот вид романтической драмы создали немецкие романтики Клейст и Вернер. Неотвратимый трубный зов этот явственно слышен в драмах Ибсена, в "Песне судьбы" Блока, пьесах Метерлинка. Это иной силы звук, отраженный и подчас еле заметный, но тот же неповторимый мотив.
"Эликсир сатаны" внешне отвечает всем канонам готического романа. На сцене привычные декорации: средневековый замок, мрачный монастырь, подземный ход, склеп, привидения, палач на эшафоте, кровь. На сцену выходит привычный герой — монах-преступник Медард, который нашел в монастырском музее склянку с каким-то эликсиром и ради любопытства выпил. А эликсир-то был тем самым, которым когда-то дьявол искушал святого Антония. Отсюда поразительная сложность фабулы, нагромождение ужасов и чудес.
Еще бы! Что может быть ужасней, запутанней, причудливей, наконец, страстей святого Антония? Достаточно взглянуть на посвященные несчастному святому полотна Иеронима Босха или Сальвадора Дали, чтобы, даже не читая романа, представить себе, какие видения стали являться опрометчивому Медарду. Недаром Гейне писал: "В "Эликсире сатаны" заключено самое страшное и самое ужасающее, что только способен придумать ум… Говорят, один студент в Геттингене сошел с ума от этого романа".
В мрачной фантастической палитре Гофмана, казалось бы, традиционно «готической», можно разглядеть тем не менее фосфорические мазки научно-фантастического метода. Особенно явственно проступают они в "Ночных повестях", о которых тот же Гейне сказал, что в них "превзойдено все самое чудовищное и жуткое. Дьяволу не написать ничего более дьявольского".
Но десятилетия давно сгладили остроту восприятия "ночных ужасов". Тем более это мы ясно сознаем теперь, что фантазия Гофмана была реакцией на окружающую его действительность. Он сам говорил, что тяга к мрачному и сверхъестественному — "прямой продукт тех действительных страданий, которые терпят люди под гнетом больших и малых тиранов". А таких тиранов — всевозможных королей, князей и курфюрстов в тогдашне" Германии было достаточно.
Но вернемся к элементам научной фантастики, поскольку именно они являются предметом нашего интереса. Суть в том, что Гофман ввел в литературу образ ученого. Взять хотя бы Коппелиуса ("Песочный человек"). Он механик, оптик, продавец барометров, наконец. Это же символичный образ — "продавец барометров"! А профессор Спаланцани? Он даже создает Олимпию — прекрасный автомат с внешностью обворожительной девушки. Потом образ человекоподобного автомата станет столь же традиционным в научной фантастике, как, скажем, машина времени. Из чапековской пьесы «RUR» слово «робот» проникнет в науку и технику, Айзек Азимов напишет книгу "Я — робот", Станислав Лем — "Сказки роботов", Каттнер — «Робот-зазнайка», Александр Полещук — "Звездный человек", Анатолий Днепров «Суэма». Но не только в автоматах дело. О них писали и с величайшим искусством создавали их еще задолго до Гофмана. Но у Гофмана автомат впервые выступает в роли двойника человека, а волшебник и заклинатель духов подменяется ученым. Другое дело, что ученые у Гофмана — эти зловещие тайные советники, спектроскописты (опять слово — символ), механики и продавцы барометров — по совместительству также чернокнижники и некроманты. Тут уже ничего не поделаешь. Здесь и власть традиций, и особенности мироощущения Гофмана, и, как следствие, то, что его ученые задуманы носителями злого начала.
Причудливое сочетание реальности и вымысла, которое так мастерски удавалось Гофману, оставило в литературе глубокий след. Этот прием с непревзойденным изяществом использовал Оскар Уайльд ("Кентрвилльское привидение"), заменив мрачный колорит тонким юмором. Ему следовали в "Жестоких рассказах" Вилье де Лиль Адан и Барбе д'Оревильи ("Лики дьявола"), Мопассан ("Орля" и другие «страшные» новеллы) и Густав Мейринк (роман «Голем», сборники рассказов "Летучая мышь" н "Лиловая смерть").
Все это длинные, разветвленные цепи с очень сложными и часто неожиданными смысловыми связями и аналогиями. Линию "Влюбленного дьявола", например, мы прослеживаем в "Шагреневой коже", а она, в свою очередь, приводит нас к "Портрету Дориана Грея" Уайльда. А это если и не «научная» в узком смысле слова фантастика, то уже наверняка фантастика философская.
Точно так же мы можем попытаться проследить и линию Бекфорда, линию романтической ориенталистики. Она приведет нас и к Гауфу, и к Вашингтону Ирвингу, и, уж конечно, к Эдгару По.
Собственно, с Эдгара По и начинается настоящая история научной фантастики. Гениальный поэт и талантливый новеллист, он стал известен в России и во Франции раньше, чем у себя на родине. Поистине нет пророка в своем отечестве. В те дни, когда слава По достигла в Европе зенита, американская критика обливала его потоками грязи и клеветы. Иначе чем «маньяк» и «отщепенец» его не называли. За бессмертную поэму «Ворон» он получил от издателя всего пять долларов.
А он глядел далеко вперед, сквозь тьму веков. Он ясно чувствовал наступающую эру научно-технического прогресса ("Тысяча вторая сказка Шехерезады"), ощущал растущее стремление человечества проникнуть в самые сокровенные тайны природы ("Рукопись, найденная в бутылке"). Он знал, что есть бездны, перед которыми бессилен даже разум ("Низвержение в Мальстрем") и верил в безграничные возможности этого разума ("Золотой жук"). Этим рассказом, кстати, начинается и генеалогическое древо детектива, а сыщик-любитель Дюпен ("Украденное письмо") вызовет к жизни Шерлока Холмса. Готический гротеск доводится Эдгаром По до почти невероятного стилистического блеска. "Маска Красной смерти", "Колодец и маятник" — это поэмы в прозе, сверкающие и звучные.
И в «вечную» тему двойника Эдгар По внес свой неповторимый вклад. Право, стоит прочесть один за другим четыре рассказа четырех этих очень разных авторов. чтобы понять, сколь разный смысл вложили они в свои вещи, которые называются почти одинаково: "Овальный портрет" (Эдгар По), «Портрет» (Н. В. Гоголь), "Портрет Дориана Грея" (Оскар Уайльд) и рассказ "Граф Калиостро" (А. Н. Толстой). После этого я бы рекомендовал перечитать еще и «Солярис» Лема, особенно то место, где к героям приходят двойники их погибших возлюбленных.
Мы, конечно, с полным правом сопоставляем современную фантастику с научной революцией нашего века, но родилась эта фантастика не на пустом месте. Даже продолжая начатую с Гомера историю лунных путешествий, мы неизбежно приходим к Эдгару По. Его герой ("Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфалля") достигает Луны на воздушном шаре, наполненном газом в 37 раз более легким, чем водород. Это уже классическая научная фантастика, когда писатель для оправдания сюжетных ходов привносит в мир новые компоненты. В этом смысле газ Эдгара По ничем не отличается, скажем, от кейворита Уэллса ("Первые люди на Луне"). Этот газ более чистая научная фантастика, чем ракеты Сирано де Бержерака и даже орудийный снаряд Жюля Верна. Пожалуй, именно Эдгар По ввел в литературу первый научно-фантастический компонент мира, если не считать, конечно, Свифта, создавшего летающий остров Лапуту, управляемый магнитами. Просто цели у По и Свифта очень разные. И то, что у По выступает на передний план, у Свифта всего лишь аксессуары, так или иначе оттеняющие его острую политическую сатиру на тогдашнюю Англию. Между этими двумя произведениями примерно такое же различие, как между современным рассказом о машине времени и сатирической антиутопией.