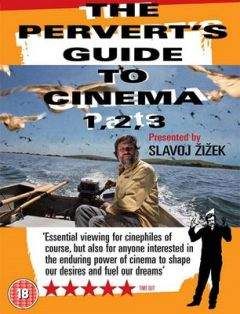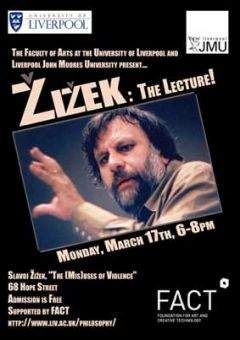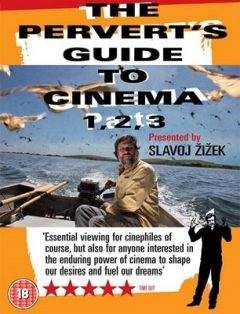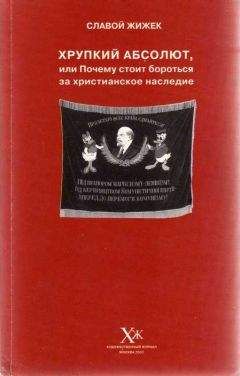Что же касается идеологического аспекта их борьбы, то более чем очевидно, что популисты ведут войну, которую просто невозможно выиграть. Если бы республиканцам действительно удалось полностью запретить аборты, если бы они запретили преподавание эволюции, если бы они подчинили Голливуд и массовую культуру федеральному регулированию, то это означало бы не только их немедленное идеологическое поражение, но также и широкомасштабную экономическую депрессию в США. Результатом этого оказывается изнурительный симбиоз: хотя «правящий класс» не соглашается с моральными требованиями популистов, он терпит их «моральную войну» как средство держать низшие классы под контролем, то есть чтобы позволить им высказывать свое негодование не мешая ничьим экономическим интересам. Это означает, что КУЛЬТУРНАЯ ВОЙНА ЕСТЬ КЛАССОВАЯ ВОЙНА в замещенном виде — этим достаточно сказано для тех, кто заявляет, будто мы живем в постклассовом обществе…
Однако это обстоятельство еще не помогает разгадать нашу загадку: как такое замещение возможно? «Глупость» и «идеологическая манипуляция» не годятся как ответы; совершенно очевидно, что недостаточно заявить, будто примитивным низшим классам промывают мозги с помощью идеологического аппарата и потому они более не способны распознать свои настоящие интересы. Давайте хотя бы вспомним, как несколькими десятилетиями раньше тот же самый Канзас был оплотом американского прогрессивного популизма, — а люди явно не поглупели за последние десятилетия… И тут также не годится прямое «психоаналитическое» объяснение в духе стародавнего Вильгельма Райха (либидинальные инвестиции людей побуждают их действовать против их рациональных интересов): тут слишком напрямую сталкиваются либидинальная экономика и экономика в собственном смысле, в то время как их опосредование не принимается во внимание. Решение в духе Эрнесто Лаклау также оказывается недостаточным: нет «естественной» связи между данной социоэкономической позицией и связанной с ней идеологией, так что бессмысленно говорить об «обмане» или «ложном сознании», как если бы существовал стандарт «надлежащей» идеологической настороженности, вписанный в саму «объективную» социоэкономическую ситуацию; всякое идеологическое здание есть результат гегемониальной борьбы за установление/навязывание цепи эквивалентностей, борьбы, исход которой совершенно случаен, не гарантирован какими-либо внешними референтами вроде «объективной социально-экономической позиции»… При таком общем ответе загадка просто исчезает.
Во-первых, здесь следует отметить, что в культурной войне участвуют двое: культура является доминирующей идеологической темой для «просвещенных» либералов, политика которых, фокусируясь на борьбе против сексизма, расизма и фундаментализма, ведется во имя мультикультурной толерантности. Ключевой вопрос, соответственно, таков: почему «культура» возникает как центральная категория нашего жизненного мира? Если говорить о религии, мы теперь больше не «верим реально», мы просто следуем (некоторым) из религиозных ритуалов и обычаев. Это часть нашего уважительного отношения к «образу жизни» того сообщества, к которому мы принадлежим (нерелигиозные евреи следуют правилам кошерности «из уважения к традиции» и т. п.). Такие высказывания, как «я не верю в это по-настоящему, это просто часть моей культуры», кажутся сегодня преобладающей формой отреченной/замещенной веры, характерной для нашего времени. Что такое образ жизни некой культуры, если не тот факт, что, хотя мы не верим в Санта-Клауса, все же в каждом доме есть рождественская елка и в декабре ею украшаются даже общественные здания? Возможно, тогда «не-фундаменталистское» понятие «культуры», в отличие от «реальной» религии, искусства и т. д., ЕСТЬ в своей подлинной сути имя для всего поля отчужденных/безличных верований — «культура» служит именем для всех тех вещей, которые мы обычно делаем, не веря в них по-настоящему, не «воспринимая их серьезно».
Во-вторых, либералы, проповедуя солидарность с бедными, одновременно закладывают в свою культурную войну и противоположное классовое послание: чаще всего их борьба за мультикультурную терпимость и права женщин выстраивается в оппозиции к предполагаемой нетерпимости, фундаментализму и патриархальному сексизму «низших классов». Разобраться в этой путанице можно, если сфокусироваться на тех опосредующих понятиях, которые служат сокрытию подлинных разделительных линий. Очень показательно то, как в идеологическом наступлении последних лет используется понятие «модернизация»: прежде всего, выстраивается абстрактное противопоставление между «модернизаторами» (теми, кто выступает за глобальный капитализм во всех его аспектах, от экономических до культурных) и «традиционалистами» (теми, кто сопротивляется глобализации). К категории «тех-кто-сопротивляется» относят всех, от традиционных консерваторов и правых популистов до «старых левых» (тех, кто по-прежнему выступает за государство всеобщего благосостояния, за профсоюзное движение и т. п.). Такая категоризация, очевидно, содержит в себе определенную долю социальной реальности — вспомните о коалиции церкви и профсоюзов, которые в 2003 году в Германии не допустили снятия законодательных ограничений на работу магазинов по воскресеньям. И все-таки недостаточно сказать, что это «культурное различие» пересекает все социальное поле, рассекая различные страты и классы. Недостаточно сказать, что эту оппозицию можно совместить с другими оппозициями (так, чтобы мы могли иметь сопротивление глобальной капиталистической «модернизации» со стороны консервативных защитников «традиционных ценностей», и в то же время моральных консерваторов, которые полностью поддерживают капиталистическую глобализацию); короче говоря, недостаточно сказать, что это «культурное различие» едино во множестве антагонизмов, которые влияют на современные социальные процессы. Неспособность этой оппозиции служить ключом к социальной всеобщности означает не только то, что оно должно быть соотнесено с другими различиями. Это означает, что она «абстрактна», а марксизм настаивает на том, что существует только один антагонизм («классовая борьба»), который сверх-детерминирует все другие и является «конкретной универсальностью» поля в целом. Термин «сверхдетерминация» используется здесь в строго альтюссеровском значении: он не означает, что классовая борьба есть конечный референт и горизонт всякой иной борьбы; он означает, что классовая борьба есть структурирующий принцип, позволяющий объяснять множество «несовместимых» способов, с помощью которых другие антагонизмы встраиваются в «цепь эквивалентностей». Например, феминистская борьба может быть поставлена в одну цепь с прогрессивной борьбой за освобождение, или же она может (зачастую) функционировать как идеологическое орудие для утверждения превосходства верхнего среднего класса над «патриархальными и нетерпимыми» низшими классами. И дело тут не только в том, что феминистская борьба может находиться в разных отношениях к классовому антагонизму, но также в том, что сам классовый антагонизм вписан здесь дважды — он составляет специфическую констелляцию самой классовой борьбы, которая объясняет, почему феминистская борьба была присвоена верхними классами (то же самое касается расизма: сама динамика классовой борьбы объясняет, почему откровенный расизм так силен среди низших категорий белых рабочих). Классовая борьба здесь является «конкретной универсальностью» в строго гегелевском смысле: соотносясь со своей инаковостью (с другими антагонизмами), она соотносится с самой собой. Она (сверх)детерминирует способ, которым связана с другими видами борьбы.
В-третьих, есть фундаментальное различие между феминистской/антирасистской/антисексистской и т. п. борьбой и борьбой классовой: в первом случае цель — перевести антагонизм в различие (например, в «мирное» сосуществование тендерных, религиозных, этнических групп), в то время как целью классовой борьбы является как раз противоположное, то есть «усугубление» классовых различий до классового антагонизма. Суть операции вычитания заключается тут в сведении сложной структуры к ее «антагонистическому» минимальному различию. Таким образом, ряды раса-гендер-класс пытаются затемнить совершенно иную логику политического пространства, каковую мы находим в случае класса: в то время как антирасистская и антисексистская борьба руководствуются стремлением к полному признанию другого, классовая борьба стремится к тому, чтобы преодолеть, подчинить и даже уничтожить другого — пусть и не в форме прямого физического уничтожения, но уничтожить другого в его социально-политической роли и функции. Другими словами, в то время как можно вполне логично утверждать, что антирасизм добивается, чтобы всем расам было позволено свободно утверждаться и развиваться в культурном, политическом и экономическом отношении, было бы совершенно бессмысленно утверждать, что цель пролетарской классовой борьбы — позволить буржуазии в полной мере утверждать свою идентичность и добиваться своих целей… В одном случае мы имеем «горизонтальную» логику признания различных идентичностей, в другом случае мы имеем логику борьбы с антагонистом. Парадокс заключается в том, что эту логику антагонизма сохраняет никто иной, как популистский фундаментализм, либеральные же левые в это время следуют логике признания различий, «сглаживания» антагонизмов в пользу сосуществующих различий: самой своей формой консервативно-популистская низовая кампания оказалась способна возобладать над старой леворадикальной установкой на народную мобилизацию и борьбу против эксплуатации социальной верхушкой. Поскольку в современной американской двухпартийной системе красным цветом обозначаются республиканцы, а синим — демократы и поскольку популистские фундаменталисты, конечно же, голосуют за республиканцев, старый антикоммунистический лозунг «Лучше быть мертвым, чем красным!» приобретает новое ироническое звучание — ирония заключается в неожиданной преемственности позиции «красных»: от старых левых активистов она перешла к новым христианским фундаменталистам {32}.