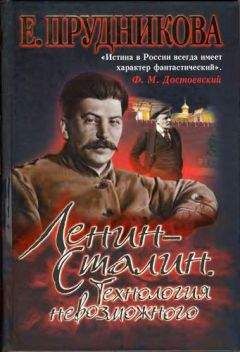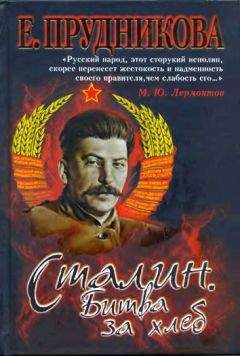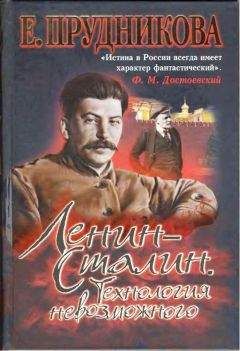«…Мне приказали арестовать группу студентов и гимназистов из буржуйских сынков, затеявших контрреволюционный заговор. Группка была небольшая, этак с десяток человек — молокососы, белоподкладочники. Направил я на операцию несколько латышских стрелков во главе с заместителем командира отряда, охранявшего Смольный, а сам не поехал. Дело, решил, ерундовое, обойдутся.
А получилась сплошная чепуха. То ли адрес товарищам записали не совсем точно, то ли латыши сами что-то напутали, только, найдя дом, где проходило контрреволюционное сборище, и поднявшись на нужный этаж, латыши начали стучать в дверь противоположной квартиры, а не туда, куда следовало. Из-за запертой двери спросили, что нужно. Не тратя времени на дипломатию, командир группы ответил:
— Отпирай! Как враги народа, вы арестованы.
В ответ загремели выстрелы.
Командир, человек смелый и решительный, недолго думая, кинулся к двери и начал её высаживать[269]. Ну, его сквозь дверь и подстрелили, как куропатку. Он упал, обливаясь кровью. Ребята оттащили своего командира от злосчастной двери, залегли и открыли огонь из винтовок. Им отвечали из пистолетов. Такая пальба поднялась, настоящее сражение.
Стреляли латыши, стреляли, извели по паре обойм, никакого проку: противник не сдается, а командир истекает кровью. Оставив двух человек на страже, стрелки подхватили своего командира и поспешили в Смольный за подмогой.
Ввалились они ко мне, докладывают, а тут не до доклада. Командир еле дышит. Вызвали мы скорее врача и отправили раненого в госпиталь, потом начали разбираться.
Рассказ латышей удивил меня необычайно. Чтобы студентики и гимназисты, белоручки, маменькины сынки оказали такое сопротивление и устояли против латышских стрелков? Не может такого быть! Что-то тут не так. Надо самому ехать!
Вместе с расстроенными латышами отправились к месту происшествия. Поднялись на третий этаж, где нас ожидали двое стрелков, оставшихся в охране, глянул я на номер квартиры и плюнул с досады. На двери ясно виднелась цифра пятнадцать, студенты же отсиживались в шестнадцатой квартире.
Разбил я свой отряд на две группы: одним велел штурмовать квартиру № 16, а сам с несколькими латышами решил прорваться в пятнадцатую квартиру. Надо же разобраться, что за воинственный народ там засел.
С шестнадцатой квартирой никакой возни не было. Вышибли латыши дверь, а за ней — никого. Обшарили всю квартиру, опять ни души. Заслышав перестрелку, студенты вместе с хозяевами квартиры удрали через чёрный ход (поймали их только несколько дней спустя).
Пока латыши обыскивали шестнадцатую квартиру, я занялся пятнадцатой. Встал сбоку двери (чтобы шальная пуля не зацепила) и крикнул во весь голос:
— Я комендант Смольного Мальков. Открывай немедленно, никого не тронем. Не то забросаем ваше логово гранатами к чёртовой бабушке!..
Прошло около минуты, и дверь чуть приоткрыли, не снимая цепочки. Кто-то пристально посмотрел на меня и сказал в глубину квартиры:
— Не брешет. Верно, Мальков!
Дверь распахнулась. На пороге стоял невысокий худощавый пожилой человек с пистолетом в одной руке и гранатой в другой. Я его знал. Это был известный тогда в Питере „идейный“ анархист, из тех, которые дрались лихо. Выходит, наши латыши вместо студентов нарвались на анархистов, а те, народ отчаянный, услыхали, что их кто-то намеревается арестовать, и, не раздумывая долго, кинулись в драку.
Жертвы были не только с нашей стороны, у анархистов подстрелили одного из вожаков. Насмерть. Наш же командир ничего, выжил…»
Решительному командиру комендант потом с великими трудами выбивал деньги на новую шинель, ибо старая была пробита и залита кровью. Но история на этом еще не закончилась, она имела продолжение…
«На следующий день после стычки с анархистами в комендатуру Смольного явился один из них, тот, что вчера дверь нам открыл. Волосы до плеч, бородка клинышком, на голове мятая фетровая шляпа, на плечи накинута тёплая пелерина — носили тогда такую одежду: пальто не пальто, а что-то вроде широкого балахона без рукавов. Вошел, сел без приглашения, небрежно развалившись на стуле. В углу рта дымится изжеванная папироса.
— Товарища нашего убили. Так? Хоронить надо по всей форме. Так? Веди к Ленину! Так.
Встал я из-за стола, подошел к нему и как мог спокойно отвечаю.
— Прежде всего сядь прилично, не в кабак пришел. К Ленину я тебя не пущу, не о чем тебе с Лениным разговаривать. Насчет похорон можешь с управляющим делами Совнаркома Бонч-Бруевичем договориться. Только и к Бонч-Бруевичу я тебя тоже не пущу, пока не бросишь фокусничать.
Он вскипел:
— Что значит фокусничать?
— А то. Вынь сначала бомбы, — я ткнул пальцем во вздувшуюся возле пояса пузырем пелерину, — отдай пистолет, вот тогда я, так и быть, спрошу Бонч-Бруевича, захочет ли он с тобой разговаривать.
Анархист гулко расхохотался, обнажив гнилые, прокуренные зубы.
— А ты, оказывается, ушлый. Так? Ладно, на тебе бомбы, держи, буду возвращаться от вашего Бонча, возьму. Так! Веди к своему управляющему. Так.
Распахнув пелерину, он вытащил из-за пояса несколько ручных гранат-бутылок и здоровенный кольт.
— Всё?
— Нет, — говорю, — не всё. Пистолеты, что у тебя в карманах, тоже давай. Тут они тебе ни к чему.
Продолжая заливисто хохотать, анархист вынул из каждого кармана брюк по нагану и, выложив на стол, присоединил к бомбам. Я сгреб весь его арсенал в ящик стола, запер на ключ, позвонил Бонну и отправил анархиста к нему.
Вернулся мой анархист от управляющего делами Совнаркома примерно через час, вполне довольный.
— Ну вот, договорился. Так. Похороны устроим что надо, первый сорт. Так. Давай оружие. Так. Я пошёл.
— Договорился так договорился. Тем лучше. А насчёт оружия… Зачем тебе столько? Того и гляди сам взорвешься, людей покалечишь. Держи свой револьвер, — я протянул ему один наган, — а остальное пусть останется у меня, сохраннее будет.
Думал я, рассвирепеет анархист, уж больно они все до оружия были падки, однако ничего.
— Жмот ты, — говорит, — вот кто. Так! Ну, да черт с тобой, оставь себе эти цацки на память. Так. У нас этого добра хватит, не пропаду. Так!
На сей раз наша встреча с представителем анархистов закончилась мирно».
Вот такая была зимой 1917 года в славном городе Питере обстановочка.
Но если бы это было всё! С криминалом бороться проще — а что сделаешь с саботажем?
Волну народного гнева организовывать не стоит — поднимется сама…
Евгений Лукин. Алая аура протопарторга
Начался он ещё 26 октября, когда засевший в здании городской думы «Комитет спасения» на ходу страстно творил «борьбу с захватчиками». Свидетельствует присутствовавший на том историческом заседании Джон Рид:
«Под гром аплодисментов было сообщено, что союз железнодорожников присоединяется к „Комитету спасения“. Через несколько минут явились почтово-телеграфные чиновники. Железнодорожники заявили, что они не признают большевиков, что они взяли весь железнодорожный аппарат в свои руки и отказываются передавать его узурпаторской власти. Делегаты от телеграфных служащих объявили, что их товарищи наотрез отказались работать, пока в министерстве находится большевистский комиссар. Работники почт отказались принимать и отправлять почту Смольного… Все телефонные провода Смольного выключены. Собрание с огромным наслаждением встретило рассказ о том, как Урицкий явился в министерство иностранных дел требовать тайных договоров и как Нератов[271] попросил его удалиться. Государственные служащие повсюду бросали работу.
Это была война — сознательно обдуманная война чисто русского типа, путем стачек и саботажа. Председатель огласил при нас список поручений. Такой-то должен обойти все министерства, такой-то — отправиться в банки… несколько человек были разосланы по провинциальным городам для организации местных отделов „Комитета спасения“ и для объединения всех антибольшевистских элементов.
Настроение было приподнятое: „Эти большевики хотят попробовать диктовать свою волю интеллигенции?.. Ну, мы им покажем!..“»
Это была пока что наполовину стихийная стачка. Чиновники, политизированные, как и все общество, всего лишь «не признавали» Советскую власть и отказывались выполнять ее распоряжения. 27 октября на чрезвычайном заседании Петроградской городской думы представитель Союза служащих государственных учреждений заявил: «Мы не считаем возможным отдать свой опыт, свои знания и самый аппарат управления насильникам». Те, кто не были политизированы, подчинялись стадному чувству или просто боялись: за сотрудничество с новой властью коллеги могли объявить «штрейкбрехером», подвергнуть остракизму и когда большевики падут, работать на прежнем месте будет невозможно — а время тяжёлое…