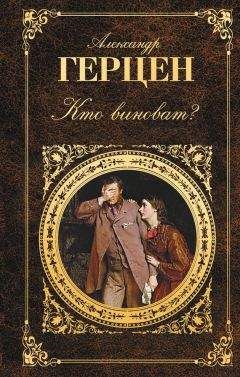class="p1">Вне службы дворянин превращался из битого денщика в бьющего Петра I; в деревне ему было полное раздолье, тут сам он становился капралом, императором, вельможей и отцом вотчины. Из этой жизни волка и просветителя вместе вышли все колоссальные уродства – от Бироновых заплечных мастеров и Потемкиных большого размера до Биронов-палачей и Потемкиных в микрометрическом сокращении; от Измайлова, секущего исправников, до Ноздрева с оборванной бакенбардой; от Аракчеева всея России до батальонных и ротных Аракчеевых,
заколачивающих в гроб солдата; от взяточников первых трех классов до голодной стаи пернатых,
записывающих бедных мужиков в могилу, – со всеми неистощимыми вариациями пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, серальников. В их числе там-сям изредка попадался помещик, сделавшийся иностранцем для того, чтоб остаться человеком, или «прекрасная душа» Манилов, горлица-дворянин, воркующий в господском доме близ исправительной конюшни.
Казалось бы, что могло зародиться, вырасти, окрепнуть путного на этих грядах между Аракчеевыми и Маниловыми? Что воспитаться этими матерями, брившими лбы, резавшими косы, колотившими прислугу, этими отцами, подобострастными перед всеми высшими, дикими тиранами со всем низшим? А именно между ними развились люди декабря, фаланга героев, вскормленная, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя… Оно им пошло впрок! Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтоб разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия. Но кто же их-то душу выжег огнем очищения, что за непочатая сила отреклась в них-то самих от своей грязи, от наносного гноя и сделал их мучениками будущего?..
Она была в них – для меня этого довольно теперь, я помечаю это и возвращаюсь к тому, что сказал: кабацкая оргия нашего разврата имеет характер какого-то неустоявшегося, неуравновесившегося брожения и беснований; это горячка опьянения, захватившая целое сословие, сорвавшееся с пути, без серьезного плана и цели, – но она не имеет еще той в глубь уходящей, той из глуби подымающейся, тонкой, нервной, умной, роковой безнравственности, которыми разлагаются, страдают, умирают образованные слои западной жизни.
Но как же это случилось? Что за нравственный самум подул на образованный мир?.. Все прогресс да прогресс, свободные учреждения, железные дороги, реформы, телеграфы?..
Много хорошего делается, много хорошего накапливается, а самум-то дует себе да дует, какими-то memento mori, постоянно усиливаясь и сметая перед собой все, что на пути. Сердиться за это так же нечего, как сердиться на белок за то, что они линяют, на море за то, что после прилива (и, как на смех, в самую лучшую минуту его) начинается отлив. К этому колебанью, к этому ритму всего сущего, к этой смене дня ночью пора привыкнуть.
Эпоха линянья, в которой мы застали западный мир, самая трудная; новая шкура едва показывается, а старая окостенела, как у носорога, – там трещина, тут трещина, но en gros [247] она держится крепко и приросла глубоко. Это положение между двух шкур необычайно тяжело. Все сильное страдает, все слабое, выбивавшееся на поверхность, портится; процесс обновления неразрывно идет с процессом гниения, и который возьмет верх – неизвестно.
Дай мне объяснить мою мысль в следующем письме. Может, я и успею тебе доказать, что это не manière de dire [248], не субъективное негодование (трудно в самом деле иметь личность с всемирной историей), а несколько черт, подмеченных глазами, свободными от куриной слепоты школьного доктринаризма и от темной воды мистицизма.
Мы остановились на том, что не надобно сердиться на белок за то, что они линяют, и за то, что всякий год зима следует за летом. Признание неотвратимого – сила. Только зная морские токи и постоянно сменяющиеся экваториальные ветры, без желания их исправлять, и можно плавать по океану.
Вглядись, как вообще дела делаются в природе. В каждой формации, в образовании каждого вида развитие идет на тех началах, с которыми определилось зачатие. Оно укрепляется, обособляется, получает больше или меньше безвозвратный характер от взаимного действия развивающихся начал и среды. Новые элементы могут превзойти, новые условия могут изменить направление, могут остановить начатое и заменить его совсем иным; но определившееся развитие, если оно не утратит своей индивидуальности, если оно продолжится, пойдет далее непременно с своей особенностью, развивая свою односторонность и односторонность своей среды, т. е. свой частный случай. Это нисколько не мешает соседям по пространству или по времени развивать всевозможные вариации на ту же тему, с разными восполнениями и недостатками, с своими односторонностями, сообразными другим условиям и другой среде. Только при начале образования видов есть неопределенная и бесхарактерная эпоха – эпоха, так сказать, дозоологического состояния в яйце и зародыше.
О перерождении животных видов мы очень мало знаем. Вся история их вообще совершилась за спиной человека и в огромные периоды лет, в которых не было свидетеля. Перед нами стоят теперь оконченные, оседлые типы, до того далекие друг от друга, что всякий переход между ними невозможен. За каждым животным просвечивает длинная история – стремлений, прогресса, avortement [249] и уравновешения, в котором формы его успокоились наконец, не выполнив смутного идеала своего, но остановившись на возможном, на русском «живет и так».
Само собою разумеется, что естественные явления не имеют ни в чем ни резких границ, ни безвозвратных приговоров. Приостановившееся творчество, сведенное на одно повторение, может всегда быть разбужено; оно в некоторых случаях перешло из-под влияний планетных под влияние человека; он своей культурой развил растительные и животные виды, которые сами собою не развились бы.
Все это бросает огромный свет на вопросы, нас занимающие.
История представляет нам на самом деле схваченную, неосевшую, оседающую формацию, хранящую в памяти своей главные фазы развития и их переливы. Одни части рода человеческого достигли соответствующей формы и победили, так сказать, историю; другие в разгаре деятельности и борьбы творят ее; третьи, как недавно обсохнувшее дно моря, готовы для всяких семян, для всяких посевов и всем дают неистощенную, тучную почву.
Так, как нельзя сказать, глядя на тихое море, что оно через час не будет вовлечено в бурю, – так нельзя положительно утверждать, что Китай, например, или Япония будут продолжать века и века свою отчужденную, замкнутую, остановившуюся форму бытия. Почем знать, что какое-нибудь слово не падет каплей дрожжей в эти сонные миллионы и не поднимет их к новой жизни? Но если мы не имеем права безусловного, непреложного заключения, то из этого никак не следует, чтоб, всматриваясь и наблюдая, мы не имели права делать никаких