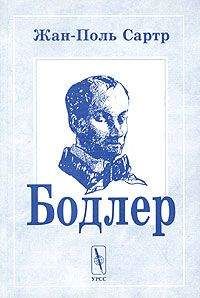Поскольку работа еврея, его права и его жизнь зависят от мнений, ситуация его в высшей степени нестабильна; юридически неприкосновенный, он оказывается заложником настроений и страстей «настоящего» общества. Он следит за ростом антисемитизма и предчувствует кризисы и грядущие потрясения, как крестьянин следит за погодой и предчувствует грозу. Он все время старается просчитать, чем отзовутся для него международные события. Он может запасаться правовыми гарантиями, богатствами, отличиями — все это только сделает его еще более уязвимым, и он это знает. Однако он знает и потрясающие достижения представителей своей расы, и ему кажется, что их усилия всегда приводят к успеху, но в тоже самое время — что какое-то проклятие обрекает эти усилия на бесплодность, и ему никогда не получить даже тех гарантий, какие имеет самый обездоленный христианин. Возможно, именно это составляет один из смысловых пластов «Процесса» еврея Кафки. Подобно герою этого романа, еврей оказывается подсудимым в долгом судебном процессе; он ничего не знает о своих судьях и почти ничего — о защитниках, и он не знает, в чем его вина, но в то же самое время знает, что его считают виновным; суд без конца переносится: на восьмое, на пятнадцатое, — он пользуется отсрочками, чтобы гарантировать себя тысячью способами, но каждая из этих принятых наугад предосторожностей добавляет еще что-то к его виновности. Внешне его ситуация может казаться блестящей, но этот нескончаемый процесс незаметно подтачивает его, и не сегодня-завтра явятся, как в романе, незнакомые люди, скажут, что процесс он проиграл, схватят, уведут и зарежут где-нибудь на пустынной окраине. Антисемиты правы, говоря, что еврей ест, пьет, читает, спит и умирает как еврей. А что еще ему остается? Они умело отравили его пищу, его сон и даже его смерть; как он может быть другим, когда он вынужден каждую минуту определяться в потоке этой отравы? А когда он выходит из дома и на улице ли, в обществе ли встречает людей, которых в одной еврейской газете назвали «те», он ловит на себе их взгляды, он чувствует в этих взглядах смесь страха, презрения, укоризны и братской любви, и он должен решить, согласен ли он перевоплощаться в персонажа, роль которого ему навязывают. И если согласен, то где намерен остановиться? А если отказывается, то отказывается ли он от всякого родства с остальными евреями или только от этнического? И что бы он ни делал, он уже направлен по этой дороге. У него есть выбор: он может быть храбрецом или трусом, может быть веселым или грустным, он может любить христиан или убивать их, но не быть евреем — такого выбора у него нет. Или, точнее, если он выберет это, если он заявит, что евреев не существует, если начнет насильственно и отчаянно отрицать в себе еврейские черты, то как раз этим и определит себя как еврея. Потому что мне, поскольку я не еврей, ничего не надо ни отрицать, ни доказывать, — если же еврей решит отрицать существование своей расы, то ему и придется доказывать это. Бросив его в ситуацию еврея, общество отвернулось от него, и он теперь должен отвечать перед собой — и отвечать собой за судьбу и за саму природу еврейского народа. Потому что никому не важно, что говорит и делает еврей, и не важно, имеет ли он ясное представление о своей личной ответственности или не имеет никакого. Все происходит так, словно он обязан каждый свой поступок поверять неким кантовским императивом, — так, словно он обязан на каждом шагу задаваться вопросом: "А если бы все евреи поступали так, как я, — как бы это отразилось на их жизни?" И на вопросы, которые он себе задает ("Что, если бы все евреи были сионистами? — или, наоборот, если бы все обратились в христианство? — а если бы все они отрицали, что они евреи?" и т. д.), он должен отвечать в одиночку, без всякой помощи, — отвечать, выбирая, определяя себя.
Если мы согласимся с тем, что человек — это свобода выбора в заданной ситуации, то легко поймем, что эту свободу можно определить как аутентичную или неаутентичную, в зависимости от ее выбора самой себя в той ситуации, в которой она возникает. Аутентичность, по самому смыслу слова, предполагает способность трезво и адекватно оценивать ситуацию, брать на себя ответственность, принимать опасности, которыми ситуация чревата, и с гордостью — или в унижении, а иногда — с ненавистью и страхом отстаивать свои права. Вне всякого сомнения, аутентичность требует большой смелости — и не только смелости, поэтому не может вызывать удивления то, что неаутентичность распространена значительно шире. Возьмите буржуа или христиан: в большинстве своем они неаутентичны в том смысле, что не позволяют себе жить в полном соответствии со своим положением буржуа или христиан, вечно скрывая от себя некие детали. И поскольку коммунисты записали в своих программах "радикализацию масс", а Маркс разъяснил, что рабочий класс должен развить в себе самосознание, то это может означать лишь то, что и пролетариат в массе своей поначалу тоже неаутентичен. Еврей не исключение из этого правила; для него быть аутентичным означает жить в полном соответствии со своей ситуацией еврея, а быть неаутентичным значит отрицать ее или пытаться от нее уйти. И неаутентичность для него несомненно более привлекательна, чем для других людей, потому что принимать такую ситуацию, в какой оказывается он, и жить в ней — просто мучение. Даже в ситуации человека социально наименее защищенного обычно отыскивается та ниточка солидарности, которая связывает его с другими людьми; так, экономические условия существования наемных рабочих в преддверии надвигающейся революции — или принадлежность людей к какой-либо, даже преследуемой, церкви уже изначально создают глубокую общность материальных и духовных интересов. Но, как мы показали, евреи не связаны общностью интересов и общей верой. У них нет общего отечества и нет никакой истории. Единственное, что их объединяет, — это враждебно-презрительное отношение к ним тех сообществ, в которых они живут. И аутентичным евреем будет тот, который утверждает себя в атмосфере окружающего презрения и — через это презрение. Ситуация, которую он хочет до конца понять и прожить, в периоды социального перемирия почти не поддается фиксации — она в том, что витает в воздухе, в неуловимом ощущении лиц и слов, в прячущейся за безобидными вещами угрозе — это какая-то абстрактная связь, соединяющая его с другими, в иных отношениях очень непохожими на него людьми. Напротив, с его точки зрения, все говорит за то, что он такой же француз, как все остальные: состояние его дел напрямую зависит от уровня жизни в стране; судьбу его детей обеспечивают мир и величие Франции; язык, на котором он говорит, и культура, в которой он воспитан, позволяют ему основывать все его расчеты и планы на принципах, общих для всей нации. Так что ему достаточно было бы расслабиться, и он забыл бы свое положение еврея, если бы не чувствовал, что везде (мы в этом убедились) разлита эта почти необнаружимая отрава враждебность других. И не то удивительно, что есть неаутентичные евреи, а то, что пропорционально их меньше, чем неаутентичных христиан. Тем не менее, именно определенные поступки неаутентичных евреев послужили антисемитам источником вдохновения для сотворения их Мифа о еврее как таковом. В действительности, для неаутентичных евреев характерно то, что они проживают свою ситуацию, убегая от нее. Они выбрали отрицание своей ситуации или ответственности, или, наконец, отверженности, которая кажется им невыносимой. Это не обязательно означает, что они хотят уничтожить понятие «еврей» или что они определенно отрицают существующую "еврейскую действительность", но их реакции, их чувства и их действия неявно направлены на разрушение этой действительности. Одним словом, неаутентичные евреи — это люди, которых другие люди считают евреями, и которые, оказавшись в этой невыносимой ситуации, избрали бегство. Ситуации, возникающие в результате, различны и не встречаются все одновременно у одних и тех же людей, каждую из них можно описать как дорогу бегства. Антисемит сближает и соединяет эти различные, иногда несовместимые дороги бегства и таким способом изображает портрет чудовища, который выдает за портрет еврея как такового; в то же время, этот портрет изображает сознательные усилия бегства от мучительной ситуации в виде наследственных черт, запечатленных на самом теле израэлита и, следовательно, не поддающихся изменению. Если мы хотим добиться ясности, мы должны разделить притянутые друг к другу части и возвратить независимость "дорогам бегства", а не считать врожденным свойством то, что по своей сути является действием. Мы должны понять, что описания всех этих дорог могут иметь отношение только к неаутентичному еврею (термин «неаутентичный», разумеется, не несет в себе смысла морального осуждения) и что их необходимо дополнить описанием еврейской аутентичности. И наконец, мы должны проникнуться пониманием того, что, при всех обстоятельствах, путеводной нитью нам может служить только ситуация, в которой находится еврей. Если мы примем этот метод и будем строго его придерживаться, быть может нам удастся заменить грандиозный манихейский миф о еврее истиной, которая будет менее величественной, но более конкретной.