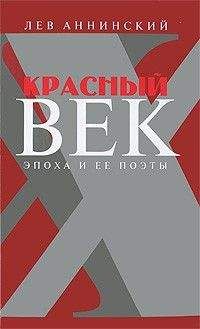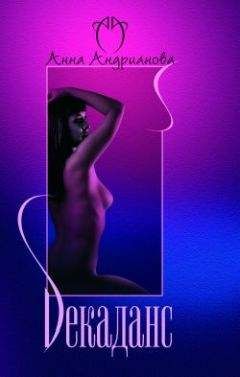В излюбленном его мире царит — солнце. Ослепительное, всепоглощающее. От первого опубликованного стиха (1902 год, "Тифлисский листок" — дикая гордость перед отцом, готовящимся уже учинить экзекуцию над шестнадцатилетним гулякой за пропуск гимназических занятий — только ради "прорыва в печать" экзекуция отменена) — стихи бренчат подражанием то ли Надсону, то ли Аполлону Майкову, но там уже — "свет беспощадный, свет слепой…"
Свет, который огненным столпом проходит через тексты Гумилева до пистолетной вспышки последнего мгновенья. Ясное солнце, загоревшееся, наверное, от рассыпанных искр Бальмонта, у Гумилева прожигает мир насквозь: костер, пожар, запекшиеся губы, рубины, и жаркая кровь, кровь, кровь…
Центральный, формообразующий "колер" — золото. Золото сверкающее, играющее, испепеляющее. Золото, которое "сыпется" с сотрясаемой плоти мироздания, бликует, дробится, играет отсветами. Мир живет этими отсветами. Он, мир, чаще всего — розовый, или, точнее, "розоватый", то есть тянущийся к солнцу и как бы недотягивающий.
"Серебро" — недотягивает фатально. Серебро — это отрицание и обкрадывание золота, своей бытийной основы серебро не имеет, оно или рукотворно ("серебряный рог"… "Серебряный шлем…" "серебряный гонг"), или просто слабо отражает золото ("и солнце плыло надо мной, и небо стало в серебре"), или снижает его (луна — "волчье солнце") Серебро — вторично, оно — не-золото, недо-золото и даже противо-золото. Оно куда больше антизолото, чем чернота. "Чернь" для Гумилева — просто оторочка света, кайма, рама для золота, подложка под него. "Золото на черни" — и чернь золоту не мешает. Точно так же, как закованному в сверкающее железо герою не мешает "чернь площадная", которая "бессмысленно смеется". Быть "посмеяньем черни" — не более хлопотно, чем быть объектом "злости монахов", "ненависти дворян" или свиста профанов, обвиняющих гения в шарлатанстве; герой Гумилева, "одетый в броню" своих "святынь", прикрытый щитом своего "холодного горя", — надменно переступает через все это; идет мимо, как слон или гиппопотам идет мимо стреляющих спиаев в яванских джунглях…
В яванских джунглях, но не в российских же "очастях", то есть болотах! Серебристая мгла, ровный мглистый сумрак, плывущие тени, белые ночи — все это с героем несовместимо, это раздражает его, тревожит, мучает смутными предчувствиями.
Белый цвет — цвет траура. Белый свет — вялая тень света золотого, полнокровного. Серый полумрак ужасен. Тяжел туман, бесконечен дождь, невыносим ветер. Пейзажные штрихи даны вразброс и как бы вытеснены жаром солнца, — "ветер с юга" довлеет над ветром с севера, — и все-таки разрозненные штрихи соединится в промозглый "антимир", где все одно к одному: льдины трутся друг о друга со змеиным шелестом, небо, "вогнутое, черное, пустое", с огоньками звезд, висит над водами, похожее на зацветшее болото.
Так вот и вся она, природа,
Которой дух не признает:
Вот луг, где сладкий запах меда
Смешался с запахом болот;
Да ветра дикая заплачка,
Как отдаленный вой волков;
Да над сосной курчавой скачка
Каких-то пегих облаков…
Тут не то даже важно, что все промозгло, просквожено и пронизано холодом, а то, что — перемешано, смазано, отражено одно в другом. "Там травы славятся узорами и реки словно зеркала, но рощи полны мандрагорами, цветами ужаса и зла". Зеркала… Эта пейзажная система не просто последовательна и слаженна — она имеет под прицелом твердо найденного литературного адресата. Если еще непонятно, какого, то вот прямое целеуказание. В одной из статей Гумилев говорит о русской поэтической традиции, которая ему чужда, — традиция ведет прямо к Александру Блоку, вот определение: "это озеро, отражающее в себе небо".
Главное, что раздражает в Блоке, — взаимосвязанность мира, взаимосцепление, нерасчленимость всего и вся: добра и зла, тьмы и света, насилия и жертвы, хаоса и строя…
На поверхности литературной борьбы это неприятие обрисовывается как бунт конкретной четкости против общей расплывчатости. "Некто — некогда — негде — о ничем…" А надо давать ясные имена вещам! Подобно Адаму. Термин "адамизм", выдвинутый Гумилевым в противовес символизму, не приклеился, приклеился придуманный про запас Городецким "акмеизм", но сверхзадача — та же. Умная Ахматова, не желавшая подменять реальность "поэтическим бредом", много лет спустя с улыбкой обнажила сверхзадачу: да просто расчищали место… Это справедливо для Городецкого, однако на уровне Блока и Гумилева (и самой Ахматовой, и Мандельштама) "место" к журнальной площадке не сводится — это "место" в мироздании. Блок и Гумилев работают на одном образном поле, но строят принципиально разные миры. Блок сопрягает — Гумилев расщепляет. Блок видит Целое, Гумилев не видит. Блок переполнен, Гумилев воспален, опустошен, выжжен. Для Блока стихи Гумилева — что-то, имеющее лишь "два измерения", что-то "выдуманное", а то и "пустоватое". Для Гумилева стихи Блока — "царственное безумие, влитое в полнозвучный стих".
Безумие — главное определение гумилевского антимира, главное зло, роковая порча для четкого, взнузданного, горько-трезвого, жертвенного и мужественного разума:
Созидающий башню сорвется,
Будет страшен стремительный лет,
И на дне мирового колодца
Он безумье свое проклянет…
Гениальные строки, воскрешенные Солженицыным в "Августе 1914-го". Это не магия формы, это бытийная акция, абсолютно верная внутреннему посылу.
"Переполненность", эмоциональная избыточность тех поэтов Серебряного века, которые возлагают на мир свое отчаяние, возникает как бы в компенсацию: в глубине-то души они безгранично верят в неотменимую реальность своего мира, будь то мир избы или мир коммуны, европеизм или славянство, индивид или "общественность" — мир схвачен невидимым "серебряным поясом", он не нуждается в дополнительных внешних обручах. Либо поддается им, радостно, как у Маяковского, "ломая себя".
Но тот, кого изначально "томит каких-то острых линий бесконечность", кому чудятся "только кубы, ромбы да углы", кто "вперяется в окрестный мрак, ища давно знакомые виденья", — не потому ли и бредит формой, что не видит содержательной воплощенности мира? А не видит именно потому, что ждет от мира слишком идеальной полноты — слишком "знакомой"? Хочет строить на "каменьях", а — кругом — "песок". Сыплющееся золото. Твердость — хрупкость.
Мир Гумилева тверд и хрупок.
Лейтмотив — поединок. Роковой. Часто с другом. С любимым человеком. С женщиной — как олицетворением природы. "И мне сладко — не плачь, дорогая, — знать, что ты отравила меня".
Лейтмотив — восстание, бунт природных сил против безумств человека.
Гул стихий. "И диким ревом зарычат пустыни, горы и пещеры".
Лейтмотив — гибель. Скорая, неотвратимая. "И умру я не на постели, при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще…"
Писали: не угадал… Какой "плющ" в чекистских подвалах? — Нет, как раз угадал. Обвиненных по таганцевскому делу не в подвалах казнили — их вывезли "на природу" и заставили рыть яму… не тут ли и проявил Гумилев поразившее расстрельщиков самообладание — копая себе в зарослях "дикую щель"? Другие кричали, просили пощады…
Он — нет. Он — в ином мире. "Как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья, — так век за веком — скоро ли, господь?.." Не прикованный ни к веку, ни к стране, дух вопрошает о смысле и, не услышав ответа, ждет, когда же свершатся пророчества, и яд жизни будет выжжен из космической бездны.
"Ужели вам допрашивать меня, меня, кому единое мгновенье — весь срок от первого земного дня до огненного светопреставленья?"
Ужели так и отвечал товарищу Якобсону на допросах? Или, не пряча презрительных глаз, спокойно соглашался, что — монархист, и что революции — "не заметил"?
С точки зрения вечности, все это, конечно, преходящий узор: монархии, республики, революции, контрреволюции. Для духа, реющего в пустыне, все это не более, чем "кубы, ромбы да углы".
Большевики, люди углов, носители кубиков и ромбов, — знали, кого убивают?
Координаты гумилевского духа, заземленные на "литературу", предельно ясны: его "корежит от реалистов-бытовиков" и "тянет прочь от мистических туманов модернизма". Но ведь именно в этих координатах ищет себя и нарождающаяся советская лирика! И ее идеологов корежит от русского простонародного почвенничества, и они презирают туманную расслабленность! Дух Гумилева героичен, мужествен, мажорен. Но и новая лирика ищет того же. Гумилев моделирует лирику советской эпохи, создавая как бы контурный силуэт, в который она должна вписаться. Даже культ мастерства, формального тренажа, поэтического ремесла, который он проповедует, неутомимо возясь с безнадежными графоманами, даже эта его пролеткультовская цеховщина, о которой один остроумец сказал, что Гумилев успешно перековывает плохих поэтов в неплохих, — это же та самая "кузница кадров", которой бредит молодая советская власть! Все грядущие призывы ударников в литературу предвещены гумилевской методикой, и даже словечко "цех" — радость футуристов, конструктивистов и прочих комиссаров стиха — им придумано.