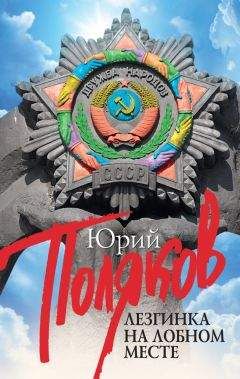Любопытно, что мысли о несовместимости таланта с социализмом, о невозможности самореализации незаурядной личности в совковой действительности впервые, на заре гласности, начали высказывать не какие-нибудь творческие заморыши или воинствующие графоманы, а худруки знаменитых театральных коллективов, всемирно известные наши музыканты, выдающиеся кинематографисты, литераторы, выпускавшие прижизненные собрания сочинений. При этом они как-то забывали объяснить тот странный факт, что сами встретили перестройку не в психушке, не в бойлерной, не в нищей эмиграции, а в ореоле славы, тогда именовавшейся всесоюзной.
Развитой тоталитаризм не столько утеснял деятелей культуры, сколько их ублажал, правда, при условии соблюдения определенных правил поведения. Во-первых, нужно было верить или делать вид, что веришь в прогресс в рамках существующего порядка, во-вторых, если и критиковать систему, то в терминах господствующей идеологии (замечательный образчик – слова одного известного поэта с трибуны: «Красный карандаш цензора и красное знамя – не одно и то же!»), в-третьих, нельзя было выносить сор из избы. Помню, когда моя повесть «Сто дней до приказа» начала ходить по Москве в рукописи, меня пригласили и очень серьезно предупредили, что в общем-то разделяют пафос моего сочинения, но лишь до тех пор, пока его не опубликовали какой-нибудь «Посев» или «Метрополь».
«Ага, – воскликнете вы, – ведь был еще и андеграунд, подлинное искусство, не склонившее гордой выи перед режимом!» «Был», – отвечу я. И историкам литературы еще предстоит разобраться, кто обязан больше тоталитаризму, – соцреализм или андеграунд!
Думаю, в равной степени. Дело в том, что и социализм, и андеграунд отличаются эстетической самонедостаточностью. Поясню на простом примере: бывают стихотворные тексты, оставляющие нас совершенно равнодушными, пока их не положат на музыку. Тот, кому приходилось читать стихи В. Высоцкого, которые он никогда не пел, понимает, о чем идет речь. Так вот, для книг соцреализма такой музыкой были шумная пропаганда и реклама, хвалебные статьи, экранизации, инсценировки, включения в школьную программу. А для андеграунда такой же музыкой были разгромные статьи, бульдозерные атаки режима, слепые машинописные копии, глушение по радиоголосам… И в первом, и во втором случаях сам текст играл роль второстепенную. Да простит меня лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский, но, собственно, его стихи, при всем моем к ним академическом уважении, оказали на общественное сознание советского общества влияние гораздо меньшее, чем, скажем, творчество известного художника-ленинописца Исаака Бродского. Другое дело конфликт Бродского-поэта с режимом, отъезд за рубеж и последующий мировой триумф. Трудно сказать, как сложилась бы его судьба, если б вместо того, чтобы оказаться под судом за тунеядство он, как Александр Кушнер (поэт, на мой взгляд, не менее талантливый), выпустил бы книжку в «Советском писателе»…
С падением режима, обеспечивавшего самонедостаточные тексты «музыкой», последовал крах как соцреализма, так и андеграунда. Испытания на самоценность не выдержали ни тот, ни другой. Испытание выдержали хорошие писатели, крупные художники, которые в катакомбы не спускались, но, печатая то, что можно было «пробить», «непроходимое» хранили в своих письменных столах до лучших времен. Я очень хорошо помню этот «парадокс гласности», когда вчерашние лауреаты доставали из своих финских письменных столов, купленных по литфондовскому ордеру, самый крутой непроходняк. А подвижники андеграунда выходили навстречу заре общечеловеческих ценностей с приветственно воздетыми вверх пустыми руками (литература русского зарубежья – отдельная тема). Думаю, сегодня сыновнюю тоску по тоталитаризму в одинаковой степени испытывают как отставные деятели соцреализма, так и былые труженики андеграунда. Как ударники-метростроевцы, они встретились в тоннеле, который рыли с двух сторон…
Чтобы понять свое прошлое, нужно прежде всего усвоить: историческая публицистика, а тем паче историческая наука – это не конкурс на самый меткий плевок! А застой, давайте сознаемся хоть сегодня, был не только результатом одряхления системы, он был и результатом вполне понятного стремления избежать «великих потрясений», каковых в текущем веке на Россию навалилось сверх всякой меры. Люди, руководившие в ту пору государством (я имею в виду не тех, что кемарили по президиумам), очень хорошо знали, что горные обвалы иной раз начинаются с оброненного спичечного коробка и что реформы легко только «начать». Во всяком случае, когда теперь полночь за полночь я спускаюсь, чтобы возле подъезда в палатке купить банку американского пива, я почему-то всегда вспоминаю, что Крым и Байконур – нынче заграница, а в переходах не протолкнешься от нищих. Но пиво пью…
Понимали те прежние руководители и другое: в стране, где в силу укорененной однопартийности нет оппозиции политической, ее нужно придумать. Такой придуманной оппозицией и стала советская культура, а также ее подземные коммуникации – андеграунд. Кто в те годы бывал в писательском Переделкине и видел мирное сосуществование под сенью Литфонда инакомыслящих и как-надо-мыслящих, полагаю, не станет спорить со мной по этому поводу, конечно, если его сильно об этом не попросят. В общем и целом интересы «придумавших» и «придуманных» совпадали. Власти, как организму гормоны, необходима относительно безопасная критика, а настоящего художника всегда распирает от претензий к современной ему эпохе, будь это феодализм, капитализм или социализм. Неудовлетворенность существующим порядком вещей – главная особенность, да и обязанность любого творца.
Вот строчки:
Довольно: не жди,
Не надейся —
Рассейся, мой бедный народ!
В пространство поди
И разбейся,
За годом мучительный год!
Века нищеты и безволья.
Позволь же, о родина-мать,
В сырое, пустое раздолье,
В раздолье твое прорыдать:
…Туда, – где смертей
И болезней
Лихая прошла колея, —
Исчезни в пространство,
Исчезни, Россия, Россия моя!
Интеллектуалы и мужья-ревнивцы схожи: и те, и другие так и норовят крикнуть в критической ситуации: «Так не доставайся ты никому!» Но я о другом. Вдумчивый читатель, даже не узнав стихов, сообразит: принадлежат они не нашему современнику, ибо сразу бросаются в глаза такие анахронизмы, как «мой бедный народ», «родина-мать», «Россия моя…». У современного поэта было бы «народ-рогоносец», «эта страна». Но пафос, согласитесь, близок нынешним настроениям передовой части отечественной интеллигенции. А ведь приведенные строки – это знаменитое стихотворение Андрея Белого «Отчаянье», написанное в 1906 году, то есть в эпоху, которую мы сегодня называем Серебряным веком, в ту эпоху, когда Россия на всех парусах двинулась к своему баснословному 1913 году. Андрей Белый умер в 1934 году, как сказано в некрологе, «советским писателем» и, полагаю, видел в последние годы жизни много такого, что может повергнуть душу в беспросветное отчаянье. Но своеобразие психологии творчества заключается и в том, что для полноценного художественного отчаянья творцу требуются известная бытовая устроенность и определенная личная безопасность. И наоборот, писатель, живущий впроголодь и каждую ночь ожидающий ареста, совершенно неожиданно начинает создавать образцы художественного оптимизма:
Ветер воется дующий
В паруса несвободы.
Чепуха Я войду еще
Под победные своды.
Агрессивно-жизнеутверждающий пафос искусства сталинского периода – это не только прихоть безжалостного социального заказчика, в чем нас сегодня стараются убедить ястребы партийной публицистики, сделавшиеся в одночасье кенарами общечеловеческих ценностей. Это еще и чисто художническое стремление – поймать ветер светлого искусства, пусть даже в паруса несвободы! Характерно, что по мере предсказанного Бердяевым преодоления большевизма, по мере оттаивания режима, вплоть до того момента, когда каждый народ в нашей многонациональной стране получил право избирать и быть избранным, советское искусство становилось все пессимистичнее, угрюмее. С чего бы? Ведь за то, за что раньше превращали в лагерную пыль, теперь всего-навсего приглашали на беседу в ЦК. Любопытная деталь: с перебравшим в своей оппозиционности деятелем культуры разговаривали гораздо мягче, нежели с проштрафившимся хозяйственником или нашкодившим номенклатурным главначпупсом. Оно и понятно: оппозицию нужно уважать, тем более что это не оппозиция режиму, а оппозиция режима. Разница существеннейшая: оппозиция режима сидела в президиумах, а оппозиция режиму – в лагерях или в эмиграции. Но я, молодой литератор, написавший нечто супротив комсомола под названием «ЧП районного масштаба» и вызванный в этой связи на заоблачный ковер, в ответ на вопрос хозяина кабинета: не повредит ли моя повесть будущим видам России, горячился и доказывал, что у писателя одна цель – правда, которая должна восторжествовать, пусть даже рухнет мир… И вот мир, прежний советский мир, рухнул. Кстати, тот деликатный функционер нынче в отставке без мундира. При мундирах и его соседи по цековскому этажу, те, что на меня орали…