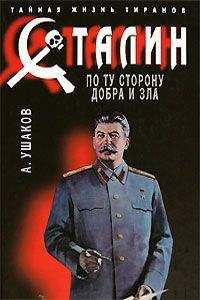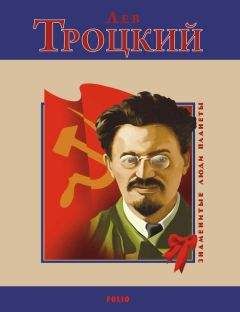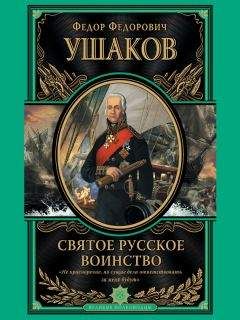За домом, в котором жил Коба, было установлено наблюдение, но он снова избежал ареста, уехав в Батум. Однако полиция выследила его и в один прекрасный вечер, когда собрание с участием Кобы было в разгаре, явилась за ним. Каким-то непостижимым образом хозяин дома отвлек внимание жандармов, и Коба сумел уйти. Он снова сменил квартиру, а затем уехал в Тифлис.
Вместе с другими революционерами Коба многое сделал для разгорания нового конфликта на заводе Ротшильда в конце февраля. 9 марта рабочие пошли на штурм тюрьмы, где содержались их товарищи. На этот раз полиция действовала очень жестко — тринадцать рабочих были убиты.
Коба отреагировал на это преступление должным образом и выпустил две листовки, в которых была дана оценка всему случившемуся. Однако дальше дело не пошло, поскольку полиции удалось выйти на след типографии. Но и здесь рабочим повезло, и после того как к Ивлидиану Шапатаве, у которого хранились типографские принадлежности, явился пристав, жена Шапатавы встретила его... с дубиной в руках: «Ты можешь разбудить детей и испугать их!» Пристав рассмеялся и ушел, что, конечно, выглядит весьма странным. Можно подумать, что полицейский прибыл не исполнять свои обязанности, а попить чайку и, получив от ворот поворот, без особого неудовольствия покинул негостеприимный дом. Но как бы там ни было, женщина спасла и типографию, и Кобу, который находился в тот момент в доме.
Коба перевез типографию в часовню Быкова, а сам отправился в Кобулети, где организовал социал-демократический кружок. Вернувшись в Батум, он выступил на большом совещании рабочих, после которого его арестовали. Но ему повезло и на этот раз: по какой-то необъяснимой случайности жандармы не заметили его чемодана, набитого нелегальной литературой, всевозможными партийными документами и листовками.
Коба отверг свое участие в забастовке и событиях 9 марта, которые стали известны по всей России как батумская демонстрация. Тем не менее жандармы завели на него особую папку, где должна была храниться вся касавшаяся его документация, сфотографировали в профиль и анфас и сняли отпечатки пальцев. В тот же день в ГЖУ Тифлиса направили запрос: не был ли «названный Джугашвили замечен в чем-либо предосудительном в политическом отношении». Предлагалось на всякий случай допросить мать Сосо и его дядю. Но тифлисские жандармы могли сообщить лишь о своих подозрениях и догадках, которые, как известно, к делу не подошьешь, и Сосо наверняка был бы освобожден. Но из-за трагической случайности он сам раскрыл карты. В посланной из тюрьмы записке он просил передать матери, чтобы она настаивала на том, что он прожил всю зиму в Гори. Записка была перехвачена, и подозрения жандармов усилились. Тем более что появились новые сведения о его руководящей роли в батумских событиях.
В присланном из Тифлиса письме генерал Дебиль сообщил, что И.В. Джугашвили «фигурирует в агентурных материалах как член Тифлисского комитета РСДРП», и попросил для установления личности последнего выслать ему фотографию. Правда, по какой-то известной только ему причине Дебиль умолчал о привлечении Сосо в 1901 году к переписке по делу о «Социал-демократическом кружке интеллигентов».
Пока жандармы переписывались, ГЖУ Кутаиси потребовало продлить содержание Джугашвили и арестованного вместе с ним Канделаки под стражей до окончания следствия. Разрешение было получено, и полиция приступила к дознанию обвиненных в призыве к возбуждению и неповиновению верховной власти. Однако обвинение оказалось несостоятельным, и «характер деятельности Иосифа Джугашвили за время пребывания его в Батуме» отныне подлежало «считать невыясненным».
Тем не менее Коба, который сумел попасть в тюремную больницу, остался, в отличие от выпущенного на волю товарища, под стражей. Он обратился к главному управляющему гражданской частью на Кавказе Г.С. Голицыну с просьбой об освобождении. Ответа не последовало. Коба написал второе прошение, в котором просил освободить его под надзор полиции по состоянию здоровья и беспомощного положения состарившейся матери. Затем к Голицыну обратилась и сама «состарившаяся» мать.
Однако начальник Тифлисского розыскного отделения ротмистр Лавров имел на этот счет иное мнение и в докладе департаменту полиции писал: «Через перечисленных лиц, между прочим, выяснилось, что в Батуме во главе организации находится состоящий под особым надзором полиции Иосиф Джугашвили. Деспотизм Джугашвили многих, наконец, возмутил, и в организации произошел раскол, в виду чего в текущем месяце в Батум ездил состоящий под особым надзором полиции Джибладзе, коему удалось примирить враждующих и уладить все недоразумения».
И Лавров был недалек от истины. В Батуме у Кобы действительно обострились отношения с членами местного партийного комитета, и многие были очень недовольны его манерой поведения, в которой часто сквозили превосходство и пренебрежение.
Да и в Тифлисе все шло далеко не так гладко, как того хотелось Кобе. Поговаривали, что переезд в Батум был связан с его исключением из тифлисской организации партийным судом за интриги и клевету на Сильвестра Джибладзе. И разногласия у них начались с того, что Коба высказался против привлечения в Тифлисский комитет простых рабочих из-за их неграмотности и неумения конспирироваться. А после того как комитет не поддержал его, Коба выехал в Батум, где сразу же по приезде выступил с резкой критикой Тифлисского комитета.
В середине апреля Кобу перевели в кутаисскую тюрьму. Сидевший там в тот момент Григорий Уратадзе писал о Кобе: «На вид он был невзрачный, оспой изрытое лицо делало его вид не особенно приятным. Походка вкрадчивая, маленькими шагами. Он никогда не смеялся полным ртом, а улыбался только. И размер улыбки зависел от размера эмоции, вызванной в нем тем или иным происшествием, но его улыбка никогда не превращалась в открытый смех полным ртом. Был совершенно невозмутим. Мы прожили вместе в кутаисской тюрьме более чем пол года, и я ни разу не видел, чтобы он возмущался, выходил из себя, проявлял себя в ином аспекте, чем в совершенном спокойствии. И голос его в точности соответствовал его «ледяному характеру», каким его считали близко его знавшие».
Вполне возможно, что именно таким Коба и казался окружавшим его людям. Но то, что он никогда не смеялся над шутками и не шутил сам, было истинной правдой, что весьма странно не только для грузина, но и для всякого нормального человека. Вряд ли его можно было упрекнуть в том, что он не понимал шуток, и, вполне возможно, это был признак какой-то постоянной грусти. Однако эта самая грусть, если она действительно присутствовала, не помешала ему установить с первых же дней пребывания в камере строгий распорядок: утром — гимнастика, затем — изучение иностранного языка и чтение, чтение, чтение... Приблизительно в это время он прочитал знаменитую работу Ленина «Что делать?», в которой нашел полное созвучие своим собственным размышлениям о партии — «строжайшая конспирация, строжайший выбор членов, подготовка профессиональных революционеров»...
Ленин произвел на бывшего семинариста неизгладимое впечатление, и, когда он читал его труд, у него создавалось такое впечатление, словно тот писал лично ему. Для того чтобы лучше понять, чем мог привлечь его Ленин, надо вспомнить, что из себя к тому времени представлял будущий вождь мирового пролетариата. В 1893 году это был уже убежденный марксист, поражавший своей теоретической подготовкой даже таких корифеев марксизма, как А. Потресов, Г. Кржижановский и П. Струве. Но уже тогда он шел против общего течения и утверждал, что главное — это цель, и для ее достижения хороши все методы, включая и террор. С необычайным энтузиазмом он подхватил мысль Энгельса о том, что «горстка решительных людей в России могла бы произвести революцию», и развил ее в своем первом большом труде «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов». Ход его мысли был совершенно свободен от сантиментов и не омрачен никакими сомнениями, что, конечно же, действовало.
Таким образом, Ленин оставил свою первую зарубку на истории русского революционного движения. Усидчивый и начитанный, он умел веско и язвительно спорить, был уверенным бойцом, придавая преобладающее значение политическому методу. Помимо всего прочего, он уже тогда отличался прямо-таки патологической нетерпимостью даже к самой умеренной оппозиции, которая так восхищала Сталина.
Конечно, в силу молодости и необразованности Сталину даже и не приходила в голову та простая мысль, что именно тот раскол, который Ленин сначала предсказал, а потом и осуществил в русском революционном движении, в конечном счете и сгубил Россию. И единое движение могло бы даровать российским народам куда более достойное существование... Но тогда ему было не до подобных тонкостей, и вслед за Марксом, Энгельсом и Лениным он повторял ставшие для него чем-то вроде Священного Писания слова из «Манифеста коммунистической партии»: «Коммунисты... открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией...»