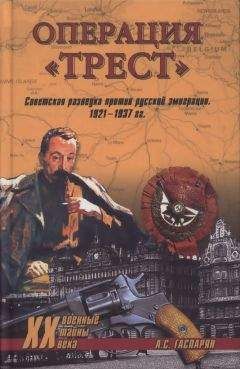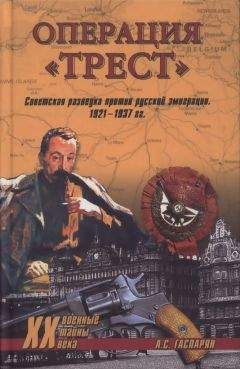Наконец, все, что там говорится о Пушкине, я запомнил почти наизусть и передавал текст, заботясь о том всего более, чтобы в кратком по необходимости варианте не были бы упущены важные подробности. Теперь волновались и отирали слезы те, кому я читал. Я же был собран. Наконец, я решил, что пришла пора познакомить с «Тагильской находкой» публику. В печати работа не появлялась еще, о находке никто ничего не знал. Фрагменты из писем Карамзиных и необходимый для их понимания рассказ я включил в программу своего вечера в зале ленинградской Капеллы. Зал Капеллы сравнительно небольшой. Тон, в котором я излагал историю писем, напоминал скорее сообщение о найденных материалах, чем эмоциональный рассказ. Это побудило меня повторить «Тагильскую находку» с эстрады Большого зала филармонии в Ленинграде, того самого зала, где я однажды уже провалился. Правда, с тех пор прошло много времени, и я каждый год выступал теперь здесь и с особенным удовольствием рассказывал с этой эстрады о том, как в молодые годы мои я провалился именно на этой эстраде.
Теперь я вышел с рассказом о Пушкине. Огромность зала снова меня поразила. Множество публики. Тема: «Пушкин — Карамзины» требует уловления множества имен, фактов, подробностей… Тема все-таки специальная. Будут ли слушать меня почти полтора часа?
Стараясь быть как можно более понятным, я стал рассказывать о Нижнем Тагиле, о семействе Карамзиных, о письмах, о том, как попали они на Урал, как нашлись… Наконец, дело дошло и до Пушкина. И тут публика стала слушать с напряженным вниманием. Это внимание взволновало меня. Когда же я дошел до письма Екатерины Андреевны Карамзиной «Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестью…», я увидел, что многие прослезились. К концу письма забелели платки. И когда я произнес слова Софьи Карамзиной: «А я так легко говорила тебе об этой печальной драме в тот день и даже в тот час, когда совершалась… развязка. Бедный, бедный Пушкин! Как он должен был страдать все три месяца, после получения этого гнусного анонимного письма…» — я увидел на лицах выражение такого невыносимого горя, что едва сам мог говорить: охрип, горло перехватили спазмы. Сделал паузу, чтобы подавить волнение, а эта непроизвольная пауза отозвалась в публике. Я испугался, что зал зарыдает. С великим трудом, стараясь читать без всякого выражения, я довел рассказ до конца. Пошел… Никто не зааплодировал, никто не встал с места. Стояла могильная тишина. Я был в отчаянии. Мне показалось, что это — новый провал!
Поэтому никогда больше рассказа этого я с эстрады не повторял, решив, что есть документы, которые можно читать только глазами. Кстати, думаю, что это относится не только к письмам Карамзиных, но и ко многим произведениям прозы, никак не рассчитанным на произнесение вслух, тем более на огромной аудитории… Нет, оказалось, что в зале нельзя, а по телевидению «Тагильскую находку» исполнять можно. Почему? Постараюсь сейчас объяснить.
Принято считать, что выступающий по телевидению не ощущает контакта со зрителем, и это сковывает его мысль и тормозит речь. Было бы странно с этим не согласиться. И, тем не менее, я, как и другие, уже привыкшие общаться с красным глазком телекамеры, ощущаю какую-то иную форму контакта. Ведь зрителя можно не только видеть, но можно воображать. Не смущает же нас то обстоятельство, что мы не видим нашего собеседника по телефону. Мы свободно произносим целые монологи, уверенные в том, что он слушает нас. И даже если разговор прервался, а мы не знаем об этом, — все равно говорим очень свободно и бойко, пока не поймем, что произносим слова впустую. Тут речь оборвется… Но ведь я же хорошо знаю, что за красным глазком меня видят и слышат. И ощущаю контакт такой же уверенный, словно говорю со зрителями по телефону. А это обеспечивает посыл и свободную интонацию. Как воспринимает при этом мои слова зритель, я должен определять сам, опираясь на опыт общения с публикой в зале. Если я чувствую, что мне удалось вызвать в себе те же эмоции, которые я испытываю, общаясь со зрительным залом, — значит, контакт налажен и с той стороны. Но тока ответного в студии телевидения я чувствовать, разумеется, не могу. Как ни странно, но отсутствие обратной связи помогло мне во время передачи «Тагильской находки»: тут у телевидения оказалось преимущество перед залом. Я не видел и увидеть не мог — прослезились зрители или нет. И если даже они прослезились — это не могло заразить меня, не могло повлиять на других и вылиться в массовое рыдание. Почему? Да потому, что даже если кто-то из зрителей сидел тогда в филармонии, то у экрана он был уже не тот зритель, а телезритель. Это совсем иная аудитория, и руководят ею другие законы восприятия. Ибо телеаудитория, хотя она и едина — разобщена между собой. И каждая ячейка смотрит и слушает отдельно от остальных и независима от реакции большинства. Законы массовой психологии ее не касаются. И в этой интимности телевидения — его неповторимо особые качества, притом что оно и всеобъемлюще, и всеохватно, и всесоюзно, и по природе своей всемирно. И, однако, скажу здесь к слову: как часто мы видим на телеэкране приемы, механически перенесенные из театра, с эстрады, смотрим картины, спектакли, созданные в расчете на массовую аудиторию. Неверно! Телевидение требует соблюдения своих, особых законов, ибо перед камерой вы со всеми наедине. И об этой дружеской атмосфере, которая возникает при общении с телезрителем, следует всегда помнить.
Рассказывая о тагильской находке, я обращался к друзьям, хотя никогда их не видел. Это особая и очень высокая дружба. И этой дружбе я не изменю никогда!
ГИЛЕЛЬС ОТКРЫВАЕТСЯ ВНОВЬ Г.Троицкая
На концертную эстраду выходит невысокий широкоплечий человек. Идет он легко и быстро. Лицо его спокойно, быть может, даже подчеркнуто спокойно. Он садится к роялю и начинает играть, оставаясь с виду таким же спокойным — не запрокидывает головы, не вскидывает эффектно рук. И только когда вслушиваешься в его игру, ощущаешь мощь человеческих страстей, которым пианист не позволяет выплескиваться наружу, заключая их в безукоризненно ясные и строгие грани.
Это Эмиль Гилельс. Таким он был тридцать лет назад. Таким он остается и сегодня, хотя исполнительское искусство музыканта проделало существенную эволюцию. Близко знающие его люди рассказывают, что во время выступления пианист сильно волнуется, что каждый концерт стоит ему огромного нервного напряжения. Но как ни вглядываешься в лицо Гилельса из зрительного зала, сидя даже совсем близко, никогда не удается уловить никаких признаков такого волнения.
Гилельса не раз снимала кинохроника, показывало телевидение. Но на экране кино и телевизора видно было только строгое и суровое лицо музыканта. Его чувства не становились зримыми. И в силу господства изображения над звуком это ослабляло впечатление телезрителя от его музыки. Иначе говоря, Эмиль Гилельс представлял собой тот тип художника, который не только не раскрывался перед кино- и телекамерой, в отличие, скажем, от Вана Клиберна, но как будто даже стремился еще больше закрыться перед ней. Так было.
Но вот наступил последний вечер бетховенского цикла Гилельса, который он давал в Большом зале Консерватории в сопровождении симфонического оркестра под управлением Ноэми Ярви. Исполнялся Пятый фортепианный концерт. Первый, Второй, Третий и Четвертый я слушала непосредственно в Большом зале. Сами по себе приносившие огромное наслаждение, они позволяли делать и интересные сравнения с более ранним исполнением, судить о характере той эволюции, которая происходит в исполнительском искусстве Гилельса. Масштабность и глубина его интерпретации все более обогащается тонкой лиричностью. И теперь, при исполнении музыки Бетховена, в которой мощь так гармонически слилась с лирикой, эмоциональность пианиста, в отсутствии которой раньше нередко упрекали Гилельса, раскрылась во множестве переливов и оттенков. Но внешний облик музыканта, манера его поведения оставались теми же. Временами можно было закрыть глаза, чтобы лучше вслушаться в тончайшие нюансы его игры.
Исполнение Пятого концерта я смотрела по телевизору. И тогда-то случилось невероятное. На телевизионном экране предстал совсем новый Гилельс. То был человек, все существо которого переполнено глубокими чувствами. Ему необходимо было, мучительно необходимо было излить себя в звуках, иначе он не сможет существовать, иначе он погибнет под напором этих рвущихся наружу музыкальных сил, как погибают от внутреннего давления глубоководные обитатели океана, попав на поверхность. Сейчас за роялем Гилельс отдавал часть себя, часть своей жизни. Ничего подобного мне никогда не приходилось видеть. Этого не видели и те, кто в это время слушал пианиста в Большом зале Московской консерватории.