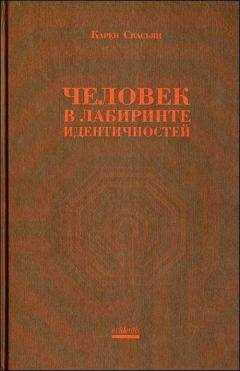Глава 2
Иммигрант
Ист-Энд, Вест-Энд. 1840–1914
За семьдесят четыре года, прошедшие между 1840 и 1914 годами, во время которых Лондон достиг пика своей мировой значимости, комментаторы часто изображали британскую столицу как серию пространственных отношений, направленных от востока к западу и от центра к пригородам. Как у легендарного Древнего Рима, его улицы очерчивали сети более широких глобальных связей, которые выросли из сердца города. Культурные, финансовые, социальные и военные нити сплетались в этом прославленном центре Империи, воспроизводя чувства и заботы далеких колоний в их административном и церемониальном центре. Так, в одной из частей импрессионистского текста «Душа Лондона» (1905) Форд Мэдокс Форд изящно описывал меняющиеся ракурсы, которые привлекались для того, чтобы вообразить столичную топографию. В городе разнообразных контрастов, чудовищной бедности и показного богатства, перенаселенных трущоб и роскошных вилл, процветающих магазинов и загнивающих фабрик целое можно было постичь, только описывая связное многообразие его частей. Форд и большинство людей его класса и профессии находили в контрастах архитектурных стилей и сбивающей с толку лондонской географии материал для красочного рассказа о путешествии, где вместо южноафриканских степей и джунглей были городской асфальт и кирпич. Более того, странствуя по городским кварталам, этот журналист XIX века вел себя практически как потребитель модных товаров на фоне меняющегося социального и эстетического ландшафта, он мог бесконечно заниматься определением себя через одежду. С точки зрения Империи роли покупателя, франта и колонизатора пересекались:
В самом общем смысле, человек, который выражает себя посредством пера и бумаги, глядит на свой Лондон с запада. На худой конец, он надеется закончить этим видом. Лондон, в котором он живет, его Вест-Энд, простирается от, скажем, Чизуика до Портленд-плейс. Для него Лондон кончается вместе с Фенчерч-стрит, а его Ист-Энд – тем, что он называет Уайтчепел. Для другого Лондон – это жизненное пространство между условным Перфлит и условным Блекуоллом. Он сознает, что где-то как будто бы у него в тылу зеленеют и чернеют заливные луга Эссекса, испещренные большими одинокими фабриками и маленькими одинокими фермами. Его компактный Лондон располагается вдоль линии, идущей от Блекуолла к Фенчерч-стрит. За этими городскими пределами находится город банка и мэрии, о котором серьезным людям и говорить нечего. Его улицы прибраны, а строения красивы и просторны. Конец Вест-Энда для него – это фонтан на площади Пиккадилли, а этот последний квартал больших почти чистых каменных зданий, широких выметенных улиц и с довольно ярким освещением уже становится чужой землей, чья странность вызывает неприятные чувства[84].
Архитектурное многообразие сложной инфраструктуры имперского Лондона позволяло использовать город как сцену, на которой предъявляли себя и проводили эксперименты в области одежды, как ничто другое сохранявшей свою эмоциональную свежесть даже после длительного пути морем в Канаду, Индию, Южную Африку, Австралию и Юго-Восточную Азию, хотя, как пишет Форд, местные жители сохраняли верность старым привязанностям, к каковому консерватизму располагали открывавшиеся перед ними виды и ориентиры. За кажущимся постоянством лондонских улиц и площадей, дворов и тупиков, однако, скрывалось неумолимое перемещение народов, и умножение расовых типажей еще больше укрепляло представление о Лондоне как о глобальном городе, чьи социальные границы и социально-экономическая география находились в постоянном движении и при этом были привязаны к ритмам и экономике процесса колонизации. Эдвин Пью в книге 1908 года «Город мира: книга о Лондоне и лондонцах» объяснил, каким образом:
Иностранных кварталов множество, и обитающих в них представителей почти всех рас, живущих под солнцем, обязательно встретишь на улицах, одетых в привычный для них национальный костюм. Есть здесь русские и поляки в первозданном виде, живущие на Черч-лейн возле Коммершиал-роуд; приезжие с Востока всех оттенков кожи – от лимонно-желтого до черного, турки, мавры, афганцы, армяне, сирийцы, персы, индусы, китайцы, японцы, сиамцы, малайзийцы, полинезийцы и негры в Лаймхоусе и Попларе; итальянцы с их римско-католическими ритуалами в Бэк-хилле и Клеркенуэлле; немцы на Леман-стрит и Фитцрой-сквер, совершенно космополитическое поселение в Сохо, жители колоний и янки повсюду[85].
Подобные литературные конструкции сильно повлияли на народное воображение викторианской и эдвардианской публики. В этой главе я хочу обратиться к повествовательным талантам таких авторов, как Форд, Пью и другие, писавших для читателей среднего класса. Предназначенные для посетителей Лондона из провинции и колоний, а также для растущего числа местных читателей среднего и нижнего среднего класса, чье знание о городе определялось их собственным расширившимся опытом поездок на работу и обратно, потребления или занятости в расширяющихся секторах услуг и администрирования, эти тексты были и разъяснительными, и художественными, они преследовали задачу найти смысл в диком разнообразии, используя для этого литературный стиль, который можно было бы определить как «городскую экзотику». В этом состояла стратегия преодоления культурных различий: угрожающие стороны городской жизни и имперский проект превращались в зрелище, и именно описания тела одетого (а порой и обнаженного) городского жителя, лондонского стиля и его непрерывно меняющегося колониального контекста оказались наиболее эффективным средством для передачи знаний о значимости города как столицы страны и империи. Лондон был империей в миниатюре, и писатели, художники и этнографы брались за портрет столичных обитателей во многом потому, что это позволяло им порассуждать о территориальных, личностных и властных отношениях, определявших социальный ландшафт. Эти отношения были представлены таким образом, что ни один определенный и не меняющийся вестиментарный тип не мог быть напрямую ассоциирован с его раздробленной топографией. Даже знаменитые кокни были порождением литературы, живущим в четко определенных границах, в пределах слышимости колоколов церкви Сент-Мэри-ле-Боу, и как недавно прибывшие чужаки, так и ничего не подозревающие жители пригородов относились к числу статистов в большой сцене тщательно контролируемого и богатого нюансами движения сквозь колонизированное пространство. Именно это имел в виду журналист Томас Берк, когда написал в своей автобиографии «Ночи в городе» (1915), что:
Лондон – это не одно место, а множество мест; у него не одна душа, а много душ. Жители Брондесбери явно отличаются по характеру и темпераменту от жителей Хаммерсмита… Запах, одежда и звуки, издаваемые людьми в Финсбери-парк так же отличаются от запаха, звука и одежды людей в Уондсуорт-коммон, как если бы один район был Англией, а другой – Никарагуа[86].
Как поясняет историк литературы П.Дж. Китинг, авторов XIX века, которые описывали городскую жизнь в таком «разъяснительном» стиле, привлекала по большому счету волшебная способность «выявлять различные системные и неясные скрытые смыслы», которые соответствовали многосоставности опыта непосредственного пребывания в городе. Кроме того, темы, которые освещались таким образом, «способствовали буквальной… интерпретации» социальных и расовых различий, которые питали самые консервативные инстинкты рыночного пространства для среднего класса. «Как для автора, так и для читателя было опасно разрешать рабочим или иммигрантам собираться в темных… плохо знакомых местах… в них было что-то первобытное, примитивное и противное христианству»[87]. Тексты, авторы которых ставили перед собой цель раскрыть и пролить свет на нравы иммигрантов, создавали ощущение контроля и сопереживания, распространяя реформаторское рвение миссионеров и на тех, кто грозит территориям, ближе расположенным к дому. «В этой особой литературе, посвященной городской жизни, было не всегда возможно или целесообразно проводить различия между беллетристикой и документалистикой», но лучших из этих авторов, среди которых были Генри Мэйхью и Чарльз Диккенс, Джеймс Гринвуд, Джон Холлингсхед, Чарльз Мэнби Смит и Джордж Р. Симс, объединяло сочувствие к тем, кто вдохновлял их на написание этих произведений, возмущение социальными и экономическими условиями, которые привели их героев к бедственному положению, а также прямой и ясный стиль повествования. Они также использовали одинаковый метод полевой работы, который был скорее качественным, нежели количественным: они стремились доказать свою точку зрения посредством выразительно представленных исследований частных случаев и в высшей степени эмоционального языка. Для историков, предпочитающих более скрупулезный анализ, ценность таких произведений может быть невысока, но романная форма позволяет понять, каким было недолговечное и иначе не зафиксированное отношение и внутреннее самоощущение различных городских жизненных стилей. Что особенно важно, своими произведениями они пытались открыть читателю глаза на то, что происходило совсем рядом и, возможно, было очень хорошо знакомо… «на большое разнообразие лондонской жизни и ее озадачивающую социальную стратификацию», а не на простой конфликт капитала и рабочей силы, так часто обсуждавшийся в политической экономике и моральной философии Викторианской эпохи[88]. Кроме того, такое путешествие с целью оценить ситуацию могло ограничиться десятиминутной прогулкой от Сент-Джеймса до Сент-Джайлза, поскольку на протяжении этого маршрута можно было встретить примеры всех проблем и проявления всякой несправедливости современного мира.