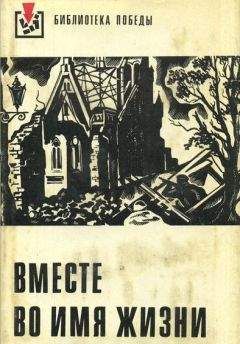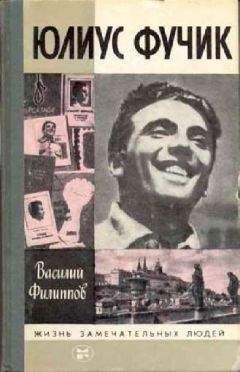снова в газету. Нет, никто так мало не давал. Это была не помощь.
– Я принесу завтра…
– Поздно…
Кто знает, что случится до завтра, сколько мальчи-ков из Эльгеты еще поплатятся своей жизнью за их медлительность? Эх, завтра! А сегодня?
Грустно блуждали их глаза по окрестности. Ах, если бы где-нибудь лежала банкнота, ведь бывает же так. Идет человек и потеряет деньги. Это очень просто, сколько таких случаев…
Но на улице деньги не валялись.
Шесть детских головок усиленно размышляли. Мечты переплетались с действительностью, разжигая стремление помочь.
И тут вскочил Антонин.
– Есть, – сказал и вдруг заколебался, – у меня есть нож.
С этого началось.
– С ножом ты ничего не сделаешь.
Это звучало почти как богохульство. Нож Антонина был его кладом, которому завидовали все мальчики, «рыцарский меч», на котором все они присягали.
– Ничего не могу? А продать его?
Пять пар глаз уставились на Антонина с недоверием. Расстаться с перочинным ножом, всем его богатством?
Богатством?
И тут, наконец, дети все поняли. Франтик торжественно встал, и все встали. Франтик пожал Антонину руку с чувством, какое могут выказать всегда только мальчики и, в минуту опасности, мужчины.
А потом он молча положил на землю рядом с ножом Антонина согнутую жестяную коробку из-под гуталина, которая была поочередно жилищем жуков, поездом или пароходом у берега Влтавы. Коробка была не такой редкой вещью, как нож Антонина, но в ней была часть жизненной истории Франты.
Руда на прощанье сжал в руке тринадцать цветных шариков, и, когда Йозеф положил рядом с ножом и коробкой свой свисток, он застыдился и придал к ним еще четырнадцатый шарик, оловянный, с которым он всегда выигрывал.
Шесть карманов опустошились. На тротуаре теперь лежало самое драгоценное имущество шести мальчиков: нож, коробочка, свисток, шарики, веревочка, чижик, потрепанный, затасканный кошелек из бумаги, теперь выглядевший уже как кожаный, праща, гайка, фотография центра нападения Планички, на которой неумелой рукой был подделан его автограф, и другие удивительные вещи, о которых даже не знаешь, зачем они нужны, и названия которых забываешь сразу же, как перестаешь быть мальчишкой. Шесть мальчиков еще раз взглянули на это богатство. А потом торжественно доверили Франте и Антонину осуществить продажу.
За рекой, на правом берегу Влтавы, находится Старый Город, и в его кривых переулочках найдешь затерявшиеся лавочки ветошников, еще не вытесненные ломбардами. Туда несут бедные люди свою нищету и утешаются тем, что, превратившись в несколько мелких монет, она становится меньше.
Туда по невидимым следам своих родителей отправились и шесть мальчиков. Люди равнодушным потоком проходили мимо них и не догадывались, что встречают торжественную процессию (кто знает, наверное, многие бы из них сняли шапки).
Впереди шли Франта с Антонином и твердыми руками придерживали карманы со своим богатством.
В десяти шагах, не спуская с нихчглаз, как почетный караул и охрана одновременно, шли четверо остальных.
Почетный караул из четырех мальчиков стал у входа в лавочку старого ветошника. Франта и Антонин прошли мимо затасканных фраков и старых рабочих костюмов с дрожью, которую во что бы то ни стало хотели сдержать, потому что чувствовали на себе взгляды своих товарищей.
Старый Исаак стоял за прилавком.
Молча дети выложили перед ним коробочку, свисток, веревочки, шарики и, наконец, нож Антонина. Потом уставились ему в лицо не испуганным взглядом, каким обычно смотрели их матери, и не с нарочитым и бесполезнььм вызовом, как это делали их отцы, но торжественно.
Старик вопросительно оглядел ветошь и злобно проворчал:
– Чего вы хотите?
Он был заметно удивлен. На самом деле, сразу уж слишком много никому не нужного барахла.
– Чего вы хотите? – пробурчал он снова. – Марш отсюда, хулиганы!
Ему казалось, что мальчики смеются над ним.
Франта не смог молча сохранять торжественность.
– Это все, – сказал он, – продаем…
Старый Исаак знал людей. По голосу он понимал, кто просит, кто тонет, кто пришел впервые, кто вторично, а кто уже никогда не придет, если ему отказать, потому что скорей умрет от голода, чем снова предложит свой поношенный пиджак. Голос Франтика звучал иначе. Такого тона он еще никогда не слышал. И не будь он так стар, это бы его раздражало. Теперь же это было только любопытно и смешно. Что только эти ребята не сделают, чтобы получить на сигареты…
– Это не на сигареты, – сказал Франта обиженно.
– Ага, на кино.
– И не на кино, – мучительно отнекивался Франта, чувствуя непонимание. – На Испанию это… – вымолвил, наконец.
И стало тихо.
Вся долгая жизнь припомнилась старику. А Франта проклинал себя, боялся даже взглянуть на Антонина. Зачем только он сказал это старому еврею? Что ему до этого? Позовет полицию. Пропадут вещи, и они не смогут помочь мальчикам из Эльгеты. Осторожно он протянул руку к прилавку, чтобы спасти, что удастся…
– Оставь! – сказал старик строго.
Он взял старую железную коробку Франты и долго ее разглядывал. Глаза двух делегатов налились слезами.
– М-да… – пробурчал Исаак, – коробочка неплохая, но больше двух крон за нее не дам…
– А это… – взял в руки нож Антонина, – прекрасная работа… Так… Для Испании, говорите… Гм… очень хорошая работа… Пять крон, думаю…
Делегаты затаили дыханье и мечтали о победе, которую принесет их помощь там, в Эльгете… Столько, столько денег!
Старик оценивал справедливо, штуку за штукой, веревочку, свисток, чижика, шарики.
А потом в мелких монетах, чтобы было побольше, он высыпал на прилавок двадцать крон…
«Творба», 4 февраля 1938 г.
В редакции зазвонил телефон. Я снял трубку.
– Господин редактор, прошу вас, назовите мне какое-нибудь укромное место, где мы могли бы встретиться. Я должен поговорить с вами!
Голос был взволнованный и боязливый.
Мы встретились. Это был преподаватель средней школы одного чешского городка. Он рассказал следующее:
– Преподавать в такое время нелегкое дело. Но сейчас начинается что-то уж совсем несуразное. Представьте себе. Я преподаю чешский язык и литературу, проходили мы с учениками драматические произведения Колара. На эту тему было задано сочинение. Класс у меня хороший, мальчики все разумные, передовых взглядов. Все указывали именно на наиболее прогрессивные стороны деятельности автора, и, вспоминая его «Пражского еврея», многие говорили также об антисемитизме как о варварстве. Некоторые к тому же цитировали Масарика.
…Через две недели директор школы пригласил меня к себе для личного объяснения. Он тщательно запер за мной дверь кабинета и серьезно начал: «Коллега, вы ведете себя очень и очень неосторожно. В нынешние времена такие задания, коллега, давать нельзя. Вы сами хорошо знаете, что я не терплю антисемитизма и уважаю прогрессивные взгляды.