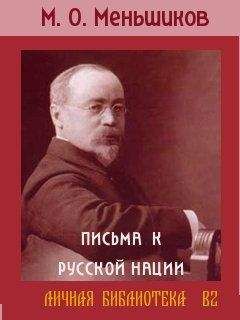Суеверие праздности как прерогативы благородства нельзя назвать у нас национальным. Мне кажется, оно занесено к нам с Запада, от древнекультурных и ранее нас изнеженных стран. Столетием или двумя раньше нашего дворянского абсентеизма французские феодалы начали покидать свою деревенскую службу королю и народу и выселяться в Париж. Что бы ни говорили о средневековом феодальном гнете, он имел огромное воспитательное и дисциплинирующее значение. Старинные бароны недешево обходились закрепощенному простонародью, но последнее имело в лице господ ближайшую защиту от всех бед и весьма полезное культурное руководство. Бароны поддерживали порядок, творили суд и расправу, отстаивали законность в населении, снабжали его в случае нужды или даровою помощью, или кредитом. Баронское хозяйство служило образцом для вассалов. Баронские замки, как наши помещичьи усадьбы, были опорными пунктами и военной обороны, и мирной культуры. Но когда деревенская знать, соблазненная блеском королевского двора, потянулась в Париж и в своей изнеженности дошла до полного бездействия, час тысячелетней монархии Капетингов пробил. Стихия народная стала органически вытеснять из себя праздный, как бы омертвевший класс. Развилась удивительная, малопонятная ненависть к аристократии, ближайшие предки которой, по свидетельству Тэна, пользовались сердечною любовью крестьянства и его уважением. Изнеженность дворянства тотчас заставила почувствовать ненужность его, ненужность повела к отчужденности, а отчужденность – к ненависти. Средневековые феодалы, не выезжавшие из поместий и неотступно следившие за населением, никогда не вызывали к себе и тени той вражды, какая сложилась в революционной эпохе. Действовавших своих начальников в лице дворян народ любил и уважал, бездействовавших начал презирать. Великая революция родилась не из головы Руссо, а из инстинктов расы, почувствовавшей, что важный и необходимый орган народный – культурное сословие – атрофировался от праздности.
Взамен переставшего трудиться духовенства и дворянства народ выдвинул новый работающий культурный слой – «третье сословие». А когда «третье сословие» в изнеженности пошло по стопам старой знати, народ стал мечтать о просвещении, которое дало бы ему возможность не нуждаться в высшем сословии как носителе культуры. Отсюда новое политическое миросозерцание, из трех основ которого – свободы, равенства и братства – явилась модная теперь идея социализма и кооперации. Хотя в эту идею вложен капитал главным образом философской рассудительности, но нельзя не видеть и религиозной природы нового лозунга. Этот лозунг раздробился на ереси и секты, в которых затерялся первоначальный идеализм нового учения до такой степени, что нелегко иногда усвоить, чем же, собственно, держится обаяние анархических систем в широких рабочих слоях. Христианство, основанное на вере в чудеса, тоже не выдерживало когда-то критики, ни психологической, ни философской. Языческие философы доказывали, что христианство возможно лишь при условии, если не исполнять учения Христа. Попробуйте, говорили они, не противиться врагам, раздать свое имение нищим ~ и вся человеческая цивилизация распадется в прах. Но христианство – с верой в искупление и бессмертие – пленительно идеалом, отодвигаемым в загробную жизнь. Идеал же социализма – в теперешней жизни, устроенной на началах принудительного труда и общей собственности. В скрытом виде это то же крепостное право, только без господ. Здесь нет ничего чудесного, никаких иллюзий и очарований, есть лишь ясно выраженная мания равенства с отвращением к свободе и братству. Равенство труда и равенство достатка. Зависть и жадность не позволят выделиться никакому человеческому величию и сделают ненужным героизм.
Если социалистическая мечта справедливо внушает сомнения, если живой и талантливой части человечества не улыбается участь хорошо содержимого скотного двора или муравейника, то, мне кажется, единственное средство разбить новую религию, охватывающую массы, – это возродить старую религию, пришедшую в упадок. Старая религия в земной ее части опиралась на первозданный закон труда и на его свободу. Обленившиеся классы теперь ничего не могут возразить апостолам социализма, ибо праздное бездельничество есть грех со всякой точки зрения, и языческой, и христианской. Другое дело, если бы аристократия вернулась к древнему своему принципу, трудовому. Ведь основатели знатных родов были всегда великие труженики, помимо их таланта. Чтобы быть выбранным в вожди хотя бы разбойничьей шайки, нельзя было быть лентяем и рохлей, нужно было оказать исключительные заслуги, то есть проявить исключительно высокий труд – и по количеству, и по качеству. Древнее дворянство зарабатывалось подвигом, то есть одолением каких-нибудь чрезмерных препятствий, а для этого нужна была незаурядная затрата сил, и физических, и моральных. Родоначальниками аристократии были не худшие и не средние, а действительно выдающиеся люди, работавшие лучше других. Если бы изнеженное потомство вернулось к этому источнику благородства, если бы оно научилось работать изо всех сил, то оно могло бы смело смотреть в глаза пророкам социализма. Оно могло бы сказать этим пророкам: не мы лентяи, а вы. Не мы тянем в обеспеченную праздность, а вы. Не нас пленяет полупаразитное существование, а вас. Научитесь работать не как все, а как лучшие работники, и вы увидите, что повышенный индивидуальный труд гораздо лучше пониженного стадного труда. Вы прячетесь за общую спину, вы пугаетесь свободного соревнования, вы хотели бы на всех надеть одинаковое рабочее ярмо, но нам, аристократам труда, такое ярмо не кажется ни красивым, ни удобным, ни достойным человека. Вы, социалисты, отстаиваете исчезновение личности в массовой бездушной работе, мы же отстаиваем свободу гения и развитие всякой личности до доступного ей совершенства. Работайте изо всех сил и вы увидите, что только этим путем природа в состоянии раскрыть все свои возможности. Работать без соперничества, без одушевления, в общей запряжке с толпой людей – это значит ослаблять человеческую энергию, а не поднимать ее.
Великое в простоте своей правило работы «изо всех сил» облагородило бы любое сословие, ему преданное, оно облагородило бы и простонародье, которое в последние десятилетия начинает утрачивать религиозные основы жизни. Безобразные беспорядки последних дней в Петербурге показывают, до чего среди рабочих извращено понятие о труде. Чтобы выразить протест против бакинских событий, сотни тысяч петербуржцев, зарабатывающих честный кусок хлеба, вдруг перестают его зарабатывать. Сотни тысяч граждан, уважаемых, пока они честно трудятся, вдруг становятся в положение праздных бездельников и думают, что уважение к ним от этого повысится. Прекратив производство всех нужных предметов, полагают, что этим они внесли какой-то вклад в общественное благополучие. Забастовки длятся иногда месяцами, но уже пять дней безделья ста тысяч рабочих вынудили из их собственных карманов капиталов свыше полумиллиона рублей да столько же из кармана капиталистов. Общество, беднеющее трудом, сразу же обогащается бездельем и всеми продуктами праздности – скукою, пустословием, ссорами, пьянством и т. д. Продуктов труда делается все меньше, и они становятся все дороже. Усиливаются общая нужда и нищета. Петербургская забастовка, дошедшая до баррикад и кровавых стычек, окончена, но понаблюдайте, что делается на улицах столицы. Кучками по трое, по четверо бродят оборванные голодные малые с озлобленными лицами. В глазах их светятся забота и отчаяние, а рты изрыгают проклятия на весь свет, а в особенности на тех пророков социализма, которые сорвали их с трудового пути…
И для них пригодится родительский совет власти: каков бы ни был честный труд, раз вы имеете его, дорожите им и работайте изо всех сил. Всем от этого лучше будет, и вам первым.
17 июля
Весь народ национален, и даже все русское общество, если выкинуть из него озлобленную часть инородцев. Говорю об озлобленной части, ибо другая, не озлобленная, а добродушная часть инородцев уже охвачена русской стихией, пропитана ею, как сардинки маслом, и входит в состав русской нации. О немцах нечего и говорить: между ними столько «кровавых» русских патриотов, что это просится даже в пословицу. Но разве вам не случалось встречать даже поляков, настолько обрусевших, что им тяжело носить польскую фамилию? А что вы скажете о г-не Гольтисоне? Это чистокровнейший еврей – и тем не менее страстный композитор русского церковного пения и, как говорят, большой русский патриот.
Что такое Россия, что такое наша национальная идея – об этом многие имеют смутное понятие. Неясно это и почтенному барону Розену, превосходную речь которого на днях в Государственном совете следовало бы прочесть всем, кто любит Россию.