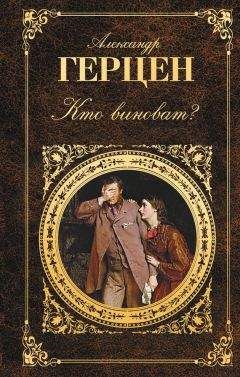в самом ли деле оно не способно к
выдержке и
энергии? Я ставлю сильный вопросительный знак.
Как бы нам, старикам, не пришлось себя винить в противоестественных привычках вместо молодого поколения? И вы и мы по положению, по необходимости были рефлектерами, резонерами, теоретиками, книжниками, тайнобрачными супругами наших идей. Все это было уместно, необходимо после перелома русской жизни в 1825 году; надобно было сойти поглубже в себя, добраться до какого-нибудь света, все это так – но энергией, но делом, но мужеством мы мало отличились. Вы скажете, что, когда нет войны, нет и случая показать свою военную отвагу, – без сомнения, но нечего же и бросать каменья в юношей, рвущихся на бой, за то, что они пошли слишком задорно и, главное, не дочитали своих учебников. История и география вещи хорошие, но за их незнание нельзя предавать целое поколение проклятию и, разодравши сертуки наши, с злобной радостью видеть, когда его посылают на каторгу. В 1812 году мальчики шли на войну, и никто не бранил их за то, что они, не кончив курса, брали Георгиевские кресты.
Невежество – там, где оно не роковая необходимость, а следствие лет и небрежности, – я, конечно, ненавижу не меньше вашего; но, во-первых, я желал бы знать, что вы разумеете под невежеством? Изучение филологии, классическое образование составляли прежде все образование; теперь больше других специалистов; теперь больше занимаются естественными науками. А во-вторых, есть в истории народов полосы, в которые пульс усиливается и мешает обыкновенному строю, в котором все кругом колеблется, изменяется, другие потребности овладевают умами, чем во времена застоя, и увлекают их. Россия явным образом в этом положении с Крымской войны. Спокойно, кабинетно заниматься вряд было ли возможно не только молодежи, но и седым головам.
Нам учиться был страшный досуг. Мы, кроме книги, ни за что и не брались; мы удалялись от дела, оно было или так черно, или так невозможно, что не было выбора; люди, как Чаадаев, как Хомяков, исходили болтовней, ездили из гостиной в гостиную спорить о богословских предметах и славянских древностях. Мы все были отважны и смелы только в области мысли. В практических сферах, в столкновениях с властью являлась большей частию несостоятельность, шаткость, уступчивость. Хомякову было за сорок лет, когда ему Закревский велел обриться, и он обрился. Бывши под следствием в 1834 году, я скрывал свои мнения, мои товарищи тоже. Не знаю, что скажут другие бывшие по крепостям и призываемые в III отделение, но мне кажется, что после декабристов до петрашевцев все лыняли. Самая революционная натура николаевского времени, Белинский, и он был сведен на эстетическую критику, на Гегелеву философию и дальние намеки.
Все печально сидело по щелям, читало книги, писало и, по большей части украдкой, показывало потом статьи. Вдруг, когда всего меньше ждали, в петровском тюремном корабле открылась течь. Обезумевший шкипер первый растерялся и умер. Середь мрачной и мертвой тишины весть о его смерти сверкнула молнией, и все зашевелилось, подняло голову, подняло голос, все были готовы ринуться, исполненные надежд, ожиданий… Куда?.. Этого еще никто не знал, а только спрашивали: когда же? что же?., да скоро ли?
Минуты великие, в которые начинается пробуждение целой страны, на вершинах всех слоев занимается заря… и все чувствуют, что начинается другое время, новый день…
И вы могли думать, что молодежь, что шестнадцати-, семнадцатилетние юноши останутся спокойно и благонравно доучиваться с тем втесненным безучастием к жизни и отчаянным усердием, с которым мы сидели на университетских лавках? И это несмотря даже на то, что у них не было больше профессоров, как Грановский, и со всех сторон врывался в аудиторию говор об общественных делах? Какой же вы плохой знаток человеческого сердца!
Что, собственно, вас сконфузило и испугало? Что студенты стали делать сходки, посылать депутатов к начальству, говорить речи? Отчего же студентам не делать сходки? Зачем молчание монастыря, передней или фрунта? Больных в комнате не было, а была горячая молодежь, которой разрешили немного погромче говорить. Зачем вы и ваши друзья принесли на эти весенние праздники угрюмую фигуру недовольных учителей, монахов на пирушке? Зачем вы видели в этом естественном взрыве молодых сил один беспорядок и нарушение строя (и какого строя!)? Зачем в языке, который обращался к молодежи, был слышен клерикальный и начальнический тон? Одно мягкое братское слово могло сделать больше впечатления, чем томы черствых проповедей. Вы оскорбили молодежь безучастием и порицанием в минуты дорогие для нее. Чему же дивиться, что и та часть ее, которая слушала вас прежде, отстранилась и ускользнула от вас?
Новые деятели, выступившие на сцену, мало-помалу оставленную старыми актерами, испугавшимися, что пьеса, которую они весь век представляли, начинает превращаться в быль, двинули молодежь в ином направлении, и если они меньше учили ее по книге, то учили больше примером. Оттого молодое поколение стало складываться с большим мужеством, с большей выдержкой и с большей готовностию на бой – вам это может не нравиться, но все же это совершенно противоположно той энервации, о которой вы говорите.
Хотите примеры, я вам напомню три-четыре случая, известные всей России; мало их, я готов привести двадцать. Боюсь одного, что они не подействуют на вас: для того, чтоб вы оценили подвиг преданности, любви, вам надо, чтоб он был в Четьих-Минеях или по крайней мере в Болгарии или Сербии, а это все примеры светские, петербургские и иногородние.
Перед каким-нибудь римским центурионом, смело читавшим «запрещенные» молитвы, не боясь ни своего легионера, ни диких зверей, религиозные люди умиляются тысячу восемьсот лет; а когда гардемарин Трувеллер прямо и открыто говорит: «Да, я давал эти листы, эти книги солдатам, потому что в них заключается правда»; или когда Сливицкий на вопрос, кто писал письмо, служившее единственным доказательством против него, говорит, что писал письмо он, и подписывает его, зная, что он подписывает свой приговор; когда Муравский, больной, без всяких средств, встает перед судьями и говорит им все, что накипело в его душе, тогда почитатели центуриона называют это мальчишничеством, дерзостью, западной демонстрацией.
Что, энервированный Михайлов просил пощады? Обручев валялся в ногах царя? Чернышевский отрекся от своих убеждений? Нет, они ушли на каторгу с святою нераскаянностью. И у Мартьянова нервы не особенно были слабы, когда, обиженный враждебным отношением всей Европы к России, он предал сам себя земскому царю.
Я ни в тридцатых, ни в сороковых годах не помню ничего подобного.
Двенадцатого апреля 1861 года русская земля обагрилась русской кровью. Пятьдесят крестьянских трупов легло на месте,