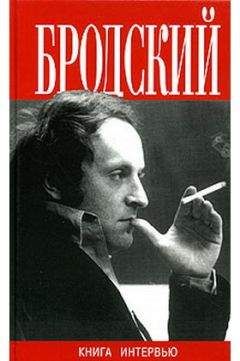А вообще у тебя есть какие-нибудь комплексы?
Если и есть, то по отношению только к одному человеку — Одену. Быть может, мое восхищение им и есть своего рода комплексом, не знаю. А Элиотом я восхищаюсь, но со многими оговорками. Чтобы верно понять его индивидуальность, я стараюсь видеть в нем не только поэта, но и эссеиста, а также драматурга. В сущности, я больше люблю его пьесы, чем стихи, очень ценю "Вечеринку с коктейлями" и "Личного секретаря".
Ты так любишь кошек… Что ты думаешь о "Популярной науке о кошках, написанной Старым Опоссумом"?
О, это вещь чудесная, прелестная, трогательная. Здесь перед нами чистый лирик. Однако, когда мы видим, к сколь чрезвычайным средствам предосторожности он прибегает в своей литературной критике, как прячется за бесконечными маневрами и сардоническими интонациями, как боится любви и не знает, что с ней делать… Несмотря на это, Элиот мне дорог, хотя не так, как Оден.
Среди множества современных англоязычных поэтов тебе не встретился какой-нибудь явно выделяющийся женский голос? Что ты думаешь хотя бы об Эми Клэмпит?
Да, я ее читал, но не очень высоко ставлю такого рода поэзию. Она явно уступает американским поэтессам старших поколений, особенно необыкновенной и прекрасной Мэрианн Мур. Великая поэтесса, совершенно независимая поэтическая личность — что называется, one person literature. Рядом с Мур я бы поставил младших — Элизабет Бишоп и Луизу Богэн. А среди пишущих сегодня знаю двух великолепных поэтесс — обе из окрестностей Бостона. Первая — Гертруда Шнэкенберг, хотя последняя ее книжка многих разочаровала. А вторая — Милэйз Грин, автор пока одной только книги, и я, в сущности, еще не знаю, каково ее будущее, поскольку у нее сильная склонность к самоубийству. Она происходит из старинного американского рода, из семьи, прибывшей сюда на "Мэйфлауэр", и, быть может, именно фанатическая религиозность ее предков — виной ее психическим проблемам. Собственно, это все. Могу хоть сейчас добавить еще сотню имен молодых поэтесс, но уже на порядок слабее. Но хотелось бы вспомнить великую австралийскую поэтессу Джульетту Райт. Это уже очень старая женщина, она потеряла слух и, кажется, бросила писать.
Феминизм, с твоей точки зрения, привнес что-то устойчивое в американскую поэзию?
Поэзия — это особое дело, она выворачивает наизнанку эпитеты и прилагательные. Не существует поэзии феминистской или поэзии мужского шовинизма — как не существует поэзии негритянской, поэзии белых или краснокожих. Или это поэзия, или нет. Можно обсуждать феномен так называемой "феминистской поэзии", но это занятие окажется бессмысленным для всех, кроме сторонников феминизма. Как видишь, я не в состоянии вполне серьезно говорить на эту тему, поскольку даже в американском обществе она имеет маргинальный характер. Феминизм — явление абсолютно intermuralis, оно существует в контексте академических кругов и местных интеллектуалов. Он может достичь небывалого крещендо на территории одного университета или еще какого-нибудь замкнутого культурного пространства, но если напротив университета стоит бензоколонка, то там эти вопросы уже теряют всякий смысл.
Даже если кто-то из поэтов или поэтесс разделяет эту точку зрения — как, например, Адриана Рич, очень талантливая женщина, — то в их творчестве феминизм играет роль фасада. В случае Рич не так важен феминизм, как то, что она лесбиянка — так что тем более я не могу рассуждать об этом дальше.
Ты упомянул имя Бишоп, которая также была лесбиянкой.
Да, но лесбийские акценты играют в поэзии Бишоп второстепенную роль.
Любые "измы", включая феминизм, всегда называют явления в каком-то смысле уже угасающие. Когда, например, я сам заинтересовался постструктурализмом, то узнал, что это направление уже исчерпано.
Вероятно, это мы часто реагируем с запозданием. Приведу пример возможно более крайний: в своей последней, весьма консервативной статье, Солженицын написал, что узнал о только что возникшем очередном "изме", а именно концептуализме.
Ну, держитесь, если эта весть достигла Вермонта. Печально, но Солженицын не может не быть обскурантом. Я бы даже не сказал, что это его выбор или нечто, навязанное коммунистической действительность!©, которая его окружала. Дело, как мне кажется, в его метатемпераменте.
Мы живем в последнее десятилетие века, который к тому же оказывается последним веком тысячелетия. Что ты чувствуешь?
Я размышлял и даже писал на эту тему. Мы находимся в совершенно особой ситуации. Конец века и конец тысячелетия возбуждают в нас "обычные" ощущения конца тысячелетия — и в этом смысле мы не отличаемся от предыдущих поколений, которым дан был подобный опыт. Не считая того факта, что в новом тысячелетии нас по-прежнему будут терроризировать числа, выражающие новую демографическую ситуацию. Мы будем свидетелями или участниками огромного культурного изменения в обществе, продиктованного сильным приростом населения и его новым составом. Я имею в виду не все более распространяющиеся всевозможные этнические интеракции — это картина по-своему благородная, — а просто числа. Кажется, Рышард Капусциньский первым заявил, что к концу века белая раса будет составлять лишь одиннадцать процентов населения земного шара, и эту информацию подтверждает статистика ООН. Но меня больше беспокоит тот факт, что абсурдный рост населения сопровождается совершенно новым пониманием истории — а точнее, ее отсутствием. Сегодняшние поколения, как раз сейчас переживающие свой расцвет, не получили никакого исторического образования. В шестидесятые годы обучение истории пережило кризис. Я имею в виду не концепцию Фуку- ямы, а нечто совершенно иное. Люди тридцатого — сорокового года рождения, сегодня находящиеся в зрелом возрасте, имеющие власть и избираемые президентами, — это поколения, не способные покорно воспринимать прошлое. Процессы, происходящие сегодня в Центральной Европе и России, также связаны с этой антиисторической восприимчивостью.
В каком смысле?
Попробую объяснить. Например, падение тоталитарной системы в Восточной Европе как-то связано с несоразмерностью историзма, регулирующего жизнь этих обществ в их доле и недоле (но в основном недоле) — и антиисторизмом большей части мира. Это был вопрос элементарного равновесия. Если сейчас рассматривать Россию отстраненно, получился бы музей под открытым небом, вырванная из истории страна. В сознании людей уменьшилась дистанция между причиной и следствием. Принцип малого расстояния между причиной и следствием будет определять ближайшее будущее мира. Люди будут руководствоваться прагматизмом и стремиться к быстрым и ощутимым результатам. А чем больше прагматизм, тем меньше ощущение истории.
То есть будущие общества будут формироваться не выдающимися личностями, а…
В конечном счете числами.
Что же останется поэту? Какова будет его роль?
Никакой. Если поэт в состоянии будет творить, то он будет творить для себя и для своего потенциального alter ego. Поэта тоже будет определять численность общества. Например, русская поэзия — относительно молодая, ей два века. Антологию русской поэзии можно составить из двадцати — тридцати имен. Но попытайся кто-нибудь создать антологию русских поэтов, пишущих и публикующихся сегодня, он вынужден был бы включить в нее сотни — если не тысячи — фамилий. Демографические факторы также будут определять положение поэта.
Помню, в период моего формирования литература состояла для меня из двухсот — максимум трехсот — имен. Так что я мог тешить себя мыслью, что все это я узнаю и прочитаю. Теперь же я хожу по книжным магазинам, как ходят по магазинам музыкальным с их тысячами пластинок, сознавая, что жизни не хватит, чтобы все это послушать. Нужно будет делать выбор, а он вовсе не очевиден. Никто не сможет указать путь, поскольку никто не будет в силах стать культурным гидом. Если сейчас мы живем в эпоху антологий, то будущее предстанет нам эпохой каталогов.
И поэту долго придется ждать своей каталожной славы?
Мне кажется, в будущем веке поэты будут известны в определенных кругах читателей, однако им придется в большей, чем это происходит в нашем веке, степени осознать относительность своей славы.
Необыкновенно показателен во всех отношениях Китай. Сейчас мы видим, как активно обсуждается необходимость введения в этой стране демократии. Но попробуем представить себе, каким должно быть там Представительство. Пусть на каждые десять тысяч человек приходится лишь один депутат — ведь даже в этом случае китайский парламент будет состоять из миллиона депутатов.
Поток чисел захлестнет нас.
Собственно говоря, это уже происходит — мы уже плачем над будущим. Я, однако, думаю, что, в сущности, человек всегда способен радоваться собственной ничтожности.