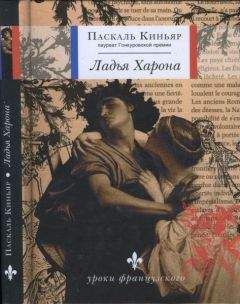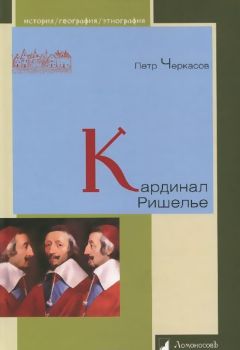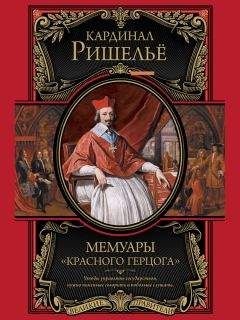«No one!» — так отвечали канадцы после Второй мировой войны тем, кто просил убежища в их стране. Ни одного! Никого!
«Ни одного свободного человека!» — вот лозунг современного общества.
Охотиться на зверей, ловить рыбу, пить воду из ручья, загорать на солнышке, бродить по берегам реки или по морским пляжам теперь уже невозможно без денег, и ситуация эта ухудшалась прямо на глазах на протяжении моей жизни.
Поистине, свобода чревата многими печалями, о которых нельзя умалчивать.
Это печаль прощания с тем, что дотоле держало вас в плену. Печаль, подобная вдовству. Чувство вины, порождаемое свободой, никогда не угасает окончательно. Даже если у вас есть тысячи причин, чтобы расстаться с родными, вы все-таки остаетесь одним из них.
Какова же программа? Оставаться в живых, сохранять хорошую физическую форму, быть полубодрствующим и полудремотным, полувозбужденным и полу-подавленным, полузверем и получеловеком, полусобой и полуникем.
Нужно брать пример с кошек: посмотрите, как осторожно пробираются они на своих мягких лапках по карнизам. Как выгибают спину и сжимаются в комок перед прыжком на крышу соседнего дома. Полухрабрые, полубоязливые зверьки. Эта осторожность и есть основа всей политики на свете.
* * *
Эпиктет написал: «Страх перед чучелами заставляет оленей бежать прочь, к сетям, где они и гибнут». Эпиктет, бывший рабом, более того, рабом раба, был мыслителем, который дал наибольшее количество определений свободы:
Свободен тот, кого нельзя принудить.
Свободен тот, у кого руки не связаны.
Свободен тот, кто не знает ни голода, ни вожделения.
Свободен человек, не являющийся рабом (как свободно неприрученное животное).
Свободен тот, кто выходит в дверь, оставленную открытой (как свободен тот, кто кончает жизнь самоубийством).
Свободен тот, кто ни у кого не испрашивает дозволения.
Свободен тот, кто не обращается ни в какую инстанцию.
Всякий человек есть цитадель, полная тиранов, коих нужно заставить плясать под свою дудку.
Каждый день говори, упражняя и укрепляя свое тело перед тем, как предоставить его массажисту, упражняя свою душу мышлением перед тем, как предоставить ее сонным грезам: «Не философ в ученичестве, но раб на пути к освобождению!»
* * *
Латинское Addictus означало рабство за долги. Быть «освобожденным» — значит «рассчитаться с долгами».
Кронштадт — название морской базы русского флота на Балтийском море, в бухте острова Котлин, форпоста, защищавшего Санкт-Петербург.
В 1905 году там начались волнения. Больше они не прекращались. Кронштадт — это повстанческая свобода, ставшая островом. Все моряки были казнены. No one. Ни один не спасся. Кронштадт — это подлинный остров — L’île ipsima.
* * *
Две земли всегда питали любовь к книгам. Это опять-таки два острова. Две нации поляризуют цивилизованный мир на разных сторонах планеты. Это самые прекрасные и самые отдаленные из всех островов на свете — Япония и Ирландия. Несколько клочков земли, затерянных в море, несколько граждан в городах, несколько книжных полок в комнатах, несколько атеистов, несколько книгочеев, несколько отшельников. Эти острова, эти пещеры, эти гроты с круглыми сводами, эти каморки, эти скиты суть последние из царств. Редки те существа, что пользуются хотя бы малой долей духовной независимости, принимая во внимание окружающую бездуховность. Аномальные мысли весьма нечасто рождаются в людских головах, переполненных заботами о семье, языке, образовании, долгах; там же и прошлое, и воспоминания, и повторения, и инстинкт, и природа. «Rara» (редкость) — так говорил Спиноза, отсылая нас к внутреннему опыту свободы.
Что же позволяет нам острее всего ощутить чувство свободы? Способность забыть, что на вас смотрят.
Перестать быть кем-то — ребенком или стариком, женщиной или мужчиной, отцом или матерью, сыном или дочерью.
Таким людям не нацелен в спину коллективный взгляд.
Они не ведают насилия над эмоциями, выраженными в голосе. Забудьте о царствах, где речь имеет значение. Душа человеческая не образована, не приручена, чужда обществу и языку. По весне жаркое молодое солнце взламывает и освобождает льдины. И они вольно плывут по воде. Свобода — тот же вольный ход.
Глава XXXVIII
Сладостная ненависть
После того как грек Афинион поднял восстание рабов[67], вдоль дорог северной Италии выстроились тысячи крестов с распятыми. Несчастные выли, как выли и собаки, ожидавшие у подножия крестов, когда их верность будет вознаграждена кусками плоти, оторвавшейся от сгнивших тел. Чайки, вороны, совы и прочие пернатые хищники кружили над головами восставших рабов, пригвожденных к крестам. Повсюду торжествовала смерть. Повсюду разносился смрад от истерзанной и мертвой плоти. Он подстегивал свободных граждан убивать еще и еще. Однако когда наместнику Берресу[68] донесли о смерти Гая Гиерона[69], сторонника Афиниона, он заплакал. Рим сделал его наместником провинции Сицилии, и Беррес сражался с Гаем Гиероном в течение всей невольнической войны. И поскольку весь Рим знал, как Беррес ненавидел Гая Гиерона, его близкие, родные, друзья и клиенты сочли, что весть о смерти врага доставит ему великую радость. Вот почему они толпой повалили в порт, где Веррес наблюдал за разгрузкой одной из своих галер. Нашли его там. Окликнули. И сообщили:
— Радуйся, Веррес, твой враг мертв!
Однако Веррес, к всеобщему изумлению, заплакал.
Он сел на выгруженный тюк с цветочными лепестками, который должны были доставить парфюмеру, и заплакал.
Потом, утерев слезы, эдил обратился к окружающим:
— Вы видите меня в горе, ибо не я стал причиною смерти моего врага. Мне следовало отомстить ему, а что я для этого сделал? Ровно ничего. Только сидел на тюке с розовыми лепестками да наслаждался праздностью.
— Это случайность.
— Он был молод.
— Ты был молод.
— Это судьба.
— Это вопрос удачи.
— Нет, — сказал Веррес. — Просто я был человеком, который проводил время в порту, наблюдая, как подходят галеры, как причаливают галеры, как разгружаются галеры.
Что тут возразить — он и впрямь был человеком, сидевшим в порту на тюке и следившим за разгрузкою своих судов. Ввечеру, придя домой, он приказал своей супруге:
— К завтрашнему утру соберешь мои вещи и положишь их рядом с оружием.
— Что ты собираешься делать со своим оружием?
— Это не твоя забота.
Но жена, будучи подозрительной и недоверчивой особой, повторила свой вопрос.
— Что собираешься ты делать, Гай Веррес, со своим оружием?
Тогда Веррес дал своей супруге такую жестокую пощечину, что она рухнула наземь.
— Прости меня! — сказала она ему, пытаясь подняться.
Он не стал ей помогать. Только сказал:
— Мне нечего тебе прощать. Я уезжаю. Завтра я возьму оружие, которое ты мне приготовишь. И возьму своего рыжего коня.
Поскольку жена скорбно глядела на него, он добавил:
— Иди и сделай то, что велено.
Супруга эдила с помощью служанок исполнила его приказ.
Пока она собирала вещи и оружие мужа, Веррес разыскал своего старшего сына и сказал ему:
— Некогда мне довелось сразиться с одним всадником на Апеннинах. А во второй раз это было в долине Тибра.
— Мне кажется, ты говоришь про Гиерона.
— Да, я говорю именно о нем. И собираюсь ехать к нему, чтобы отдать ему почести перед тем, как умереть.
— Но отец, ты же только что узнал о его смерти!
— Я повторяю: мне нужно отдать ему почести, прежде чем я лишусь жизни, ибо чувствую, как тяжко довлеют надо мной прожитые лета.
— Я понял, отец.
— Сын мой, отныне ты будешь править домом, слугами, твоей матерью, скотом, посевами и всеми судами, принадлежащими твоему отцу.
— Я сделаю, как ты велишь.
На следующее утро, еще до того, как все проснулись, Веррес уехал. Он покинул свой дом так же, как Камилл покинул Рим по приговору Луция Апулея[70]. Только Веррес воздержался от угроз. Сопровождал его один слуга да сторожевой пес. Все пятеро (сам наместник, его конь, собака, слуга и мул) добрались до Умбрии. Веррес-наместник порасспросил местных жителей. Они указали ему место погребения Гая Гиерона. Могилу вырыли у подножия пинии на вершине холма, что к западу от Сполете. Встречному всаднику, спросившему, почему он ищет человека, к которому питал ненависть и который уже много дней как умер, он ответил:
— Мне было отрадно думать, что этот человек мой враг.
* * *
Веррес выходит из леса. Спускается наконец в долину. Видит перед собой узкую извилистую речушку. А за ней, на высоком берегу, селение из десяти или пятнадцати домов, окруженное голубоватыми холмами.