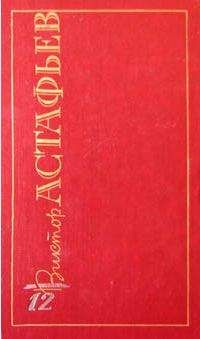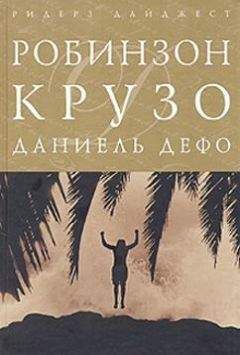Непомерно расчувствовавшись, под воздействием минуты я и ляпнул Баронову:
— А что мне пробовать? Я уж разок попробовал, да не родил…
Баронов назавтра же был у меня и, пока я ему не дал пьесу, из дому не удалился. Говорил я ему про свое драматическое творение самое худое, как меня в том убедить успели, повторяя главный, неотразимый аргумент: пьеса написана без знания законов театра…
Часа через два Баронов уже звонил мне и орал в трубку:
— Да на кой они вам, эти законы? Тут главное есть, не затуманенный ложной многозначительностью замысел, характеры, язык. А законы мы сами сотворим, да такие, что у вас зубы заноют!..
Через несколько дней я читал старую свою, но, как оказалось, неустаревшую пьесу в театре. Слушали внимательно. Приняли. Наметили сроки постановки с таким расчетом, чтобы я мог еще поработать над пьесой совместно с режиссером, но, как это нередко бывает в областных театрах, климат в нем резко изменился, режиссеры повздорили, разошлись, и один поехал на юг, другой — юго-запад. Да кабы они уезжали просто так, а то ведь непременно прихватят с собой двух-трех ведущих актеров, оголят репертуар, посадят на мель театр…
Большое это горе, большая беда для местных театров — текучесть. Ведь даже в футболе есть законы о переходе, частенько, правда, нарушаемые, а тут и вовсе анархия.
Я уже забывать начал о своей новой вылазке в театр, как вдруг звонят из Москвы, да не откуда-нибудь, а из театра имени Ермоловой, и не кто-нибудь, а сам главный режиссер Андреев! И говорит не чего-нибудь, не чепуху, не дешевые комплименты, но сразу быка за рога, — просит разрешения поставить пьесу!
Я, естественно, растерялся, лепечу что-то, мол, пьеса несовершенна, обратно — законы…
— Господи! — говорит Андреев. — Дались вам эти законы! — И повторяет почти слово в слово, что говорил когда-то Валерий Баронов.
Пока Андреев говорил, я малость приободрился, как, спрашиваю, вы про пьесу узнали? Где добыли-то? Андреев — мужик тертый, смеется: «Секрет фирмы». По голосу слышу: человек не праздно — заинтересованно со мной толкует и серьезны его намерения. Не так уж часто оказывается подобное внимание нашему брату периферийному писателю, и я не без робости, но и не без радости дал «добро», с условием, что над пьесой надо еще много работать, что сам, чем могу…
Однако заявил я сие сгоряча. То было время, когда я заканчивал работу над новой повестью и до театра никак руки не доходили, да и не верил я, честно говоря, что так вот сразу и начнется работа, завертится карусель. Вот оно, пренебрежительное, наплевательское отношение к пьесе и автору Пермского театра когда сказалось, вот оно чем обернулось.
Я не проникся серьезностью намерений театра, не представлял всей трудности постановки пьесы на сцене, всей сложности и объемности предстоящей работы, потому и не поспешил сразу же на помощь театру, не схватился доделывать не просто сырую, но и рыхлую пьесу, а ведь в прозе я давно уже никому не показываю недоделанных вещей, все делаю и доделываю сам, отстаиваю каждое слово, каждую строку, при редактуре никому ничего не передоверяю.
Игрушкой, чуть ли не забавой казались мне на первых порах театральные начинания. И знакомство с труппой театра имени Ермоловой, которого я так опасался, произошло как-то непринужденно, свободно. Все ермоловцы, и мужчины и женщины, сплошь мне показались симпатичными, обаятельными, добрыми, а тут еще главный режиссер поддал жару, тихонько мне сообщив, что в пьесу они влюблены.
Владимир Алексеевич Андреев, которого я теперь знаю несколько поближе, — человек одержимый, истово влюбленный в русскую литературу, в театр, один из тех, кто не на словах, а на деле дорожит русским словом и отечественной культурой, ее традициями, и не просто дорожит, но отстаивает в работе свои принципы и убеждения, что не могло не импонировать мне. С самого начала работы в литературе терплю я поношения за «областной, лаптями и щами пахнущий язык», за «натурализм», за «бытовизм» и т. д. и т. п.
В полном наборе присутствовали в пьесе «Черемуха» и «натурализм», и «бытовизм», и «онучами пахнущий язык». А театр в самом центре Москвы, старейший театр. Мне бы испугаться, а я этаким новоиспеченным драматическим кавалером щеголяю.
Но вот однажды я взял и без разрешения Андреева, который ставил «Черемуху», пришел в театр, на репетицию. Не на первую — на одну из последних, когда спектакль почти уже сложился и его «доводили».
И вот тут-то я наяву увидел, что актеры и режиссер делают то, что должен был сделать я, — они «дотягивают» за меня мое произведение. Им и работается трудно потому, что было слишком легко мне. И хорошо, и ладно получилось, что в Перми не поставили пьесу. На ходу, в предгастрольной спешке что бы состряпали пермяки из такого клёклого драматического теста? Да и время, время, внезапно понял я, тогда для этой пьесы не наступило…
«Всему свой час и время, всякому делу под небесами…» — хорошее изречение, я очень люблю его и часто им пользуюсь. Но вот наступил «мой час» в театре, а сделать-то я уже ничего не могу.
Постановщик, осунувшийся лицом, ощущает недостаток действия, динамичности материала в моей драме и переизбыток длиннот, он на ходу латает, домысливает, ищет, делает вставки из моих рассказов и в конечном счете выпускает спектакль.
Премьера! Цветы! Радость! Обнимания! Целования! Скромный банкет. Жизнь спектакля началась, и он идет третий сезон, идет, слышал я, все еще при полном зале. На каком-то смотре или на Московской театральной весне, я в этом не разбираюсь, исполнители главных ролей Татьяна Говорова и Сергей Приселков были удостоены Золотой и Серебряной масок, были и другие поощрения, спектакль хорошо принимают на гастролях, он получил доброжелательную прессу. Через год «Черемуха» была поставлена в Вологде главным режиссером областного театра Леонидом Топчиевым — как оказалось, тем самым человеком, который занимался в творческой студии Андреева и показал ему мою пьесу, — вот и весь «секрет фирмы».
В Вологде получился иной, нежели у ермоловцев, спектакль. Не мне судить, какой лучше, какой хуже. И здесь публика ходит на «Черемуху», и об этом спектакле хорошо писали и пишут, но меня все еще не покидает чувство внутреннего неудовлетворения, чувство неловкости оттого, что все же сырую, очень сырую я отдал пьесу в театр.
У писателя всегда есть возможность исправить свою ошибку, улучшить свое произведение. И я переписал «Черемуху». Театры ермоловский и вологодский, кстати, упорно осуществляющий свою мечту и уже поставивший четыре спектакля по пьесам местных авторов, — своими спектаклями ободрили и подвигли меня на эту работу, открыв те возможности в пьесе, которые я, хотя и чувствовал, да не видел до сцены.
Конечно, и в нынешней редакции «Черемуха» далека от совершенства, и мой скромный труд и дебют в театре не дают повода к тому, чтобы разражаться такой длинной статьей. Но я думаю: а вдруг кому-то пригодится, кому-то поможет пусть и маленький, но, как мне кажется, весьма поучительный «мой опыт»?
Что же касается лично меня, то я считаю, что мне дико повезло; я попал именно в те театры, именно к тем режиссерам, к которым и должен был попасть со своей первой пьесой.
Это не значит, что я во всем согласен с режиссером и со всеми поисками данных театров. Важно, что наши взгляды на жизнь, наше мировоззрение совпадают в главном, и еще очень важно, что теперь есть на свете театр, и не где-нибудь, а в самой столице, в который я могу прийти как в родной дом, с уверенностью, что мне здесь рады, что от меня здесь ждут новую пьесу и вообще по-свойски ко мне относятся.
И я уже пишу новую пьесу, но на этот раз не торопясь. Постараюсь сделать ее так, чтобы ни режиссер, ни актеры ЗА МЕНЯ не работали, не тащили пьесу, словно воз со щебенкой в гору.
Однажды я посмотрел у ермоловцев спектакль «Играем Стринберга» Дюрренматта. Интересный, крепко сколоченный спектакль, исполнители все на высоте, но вышел я из театра совершенно раздавленный, словно катком меня по асфальту раскатали, ни с кем не хотелось говорить, никого не хотелось видеть, да и жить не очень манило…
«Зачем вы ставите такие спектакли? Разве человеку легко? Разве мало в его жизни мрака, язв, сволочизма, тягот и несчастий?.. Зачем же еще и театр присаливает человеческие раны?..»
Так или примерно так вот напирал я на Андреева потом. Должно быть напирал не я первый и не я последний.
Веселый человек, умный актер и режиссер, он на какое-то время грустно стих и, помолчав, спросил, в свою очередь, тоном строгим, непреклонным: «Зачем же вы и ваши товарищи по перу в своей прозе так сурово реалистичны, непримиримы ко злу, а театру что ж, оставляете право только на мишуру и увеселительность? Театр ведь не просто продолжение жизни, он составная часть ее… И какова жизнь человеческая, таков должен быть и театр. Разумеется, необходимость развлекать людей была и остается за театром, но лично я оперетт не ставил и ставить их не люблю и не буду».