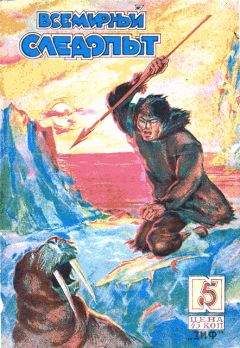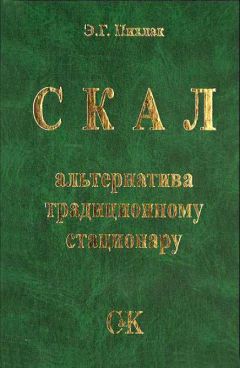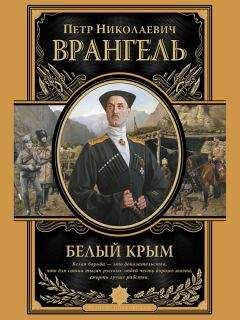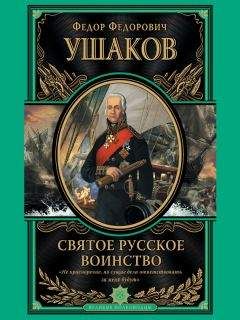— Да, но…
— Вы хотите спросить, почему мы должны испробовать именно эту пшеницу на нашей западной равнине? Да потому, что эта равнина абсолютно похожа на русскую черноземную полосу. Долгая холодная зима, сухое короткое лето. Дожди? И там и тут в период созревания выпадает одинаковое количество осадков. Но самое главное — это характер почв. Их невозможно отличить одну от другой!
— Но, позвольте…
— Нет, нет, джентльмены! Вы обязательно должны командировать меня на поиски лучшей русской пшеницы!
Наконец ему было указано на то, что он не знает русского языка. Он отправился домой, окружил себя кучами словарей и грамматик и принялся добросовестно изучать этот дьявольски трудный язык…
Таким образом исключительно благодаря личной энергии и настойчивости Карльтону удалось поехать в Россию.
Он не надолго задержался в Одессе и в Петербурге для беседы со специалистами. Все лето и осень он посвятил охоте за пшеницей. Один и тот же вопрос неотступно стоял перед ним:
«Какие сорта озимой пшеницы лучше всего переносят самые холодные ветры в наиболее бесснежные зимы?»
На ломаном русском языке, или на английском, или же просто с помощью знаков он спрашивал каждого встречного:
— Какие сорта вашей яровой пшеницы лучше всего сопротивляются засухе и паразиту ржавчины?
Он задавал эти вопросы и помещикам, и ученым агрономам, и безграмотным крестьянам. Но больше всего он смотрел. Его большие серые глаза, казалось, видели нечто такое, что влекло его все дальше на восток, к пустынным зауральским степям.
В своем неуклонном движении на восток он дошел до Тургайской степи, простирающейся на юго-восток от Оренбурга. Он уселся на маленькие дрожки и пустился в странствие по этой прерии, раскаленной как Сахара. Он низко перегибался со своего ненадежного экипажа, чтобы ковырнуть пальцем чернозем обнаженной иссохшей равнины, впитывавшей в себя короткие летние дожди, как гигантский лист пропускной бумаги.
Наконец он остановился у одинокой, крытой кошмой киргизской юрты. И здесь Карльтон нашел то, чего искал.
Он нашел твердую пшеницу, называемую кубанкой. Она была настолько тверда, что ее трудно было отличить от ячменя. В степях западной Азии на протяжении несчетного числа веков она выпускала на земли светлозеленые побеги, а эта земля возделывалась таким грубым и примитивным орудием, которое никак нельзя было назвать плугом. Кубанка выталкивала кверху свои крепкие короткие стебли, несмотря на адскую жару. Ее плоские налитые колосья, щетинившиеся длинными жесткими бородками, киргизы жали серпами в самую жаркую пору дня. Стеклянные твердые зерна вымолачивались цепами или же с помощью верблюдов, которых гоняли кругом по разложенной на земле пшенице.
Карльтон весь отдался радостным мечтам. Его глаза были устремлены теперь на далекий родной запад.
Он видел перед собой бесконечную линию фронта американских борцов с голодом, городских ученых и несчастных фермеров; он видел плоскую знойную равнину, широко расстилающуюся на сотом меридиане…
И Карльтон, закупив большое количество семян кубанки, отправил их в Америку. Он не преминул послать туда также арнаутку, гарновку и переродку — этих славных сестер неприхотливой кубанки.
Но он этим не ограничился.
Проводя дни и ночи над составлением карт атмосферных осадков, он медленно пробирался из одной глухой деревушки в другую. Он видел русских мужиков с их женами и детьми, темных, забитых, не умевшие ни читать ни писать. Но как изумительно эти люди обрабатывали свою землю! С каким искусством и терпением, вколоченным в них долгими веками смертельной борьбы с голодом, они обхаживали и лелеяли эту сухую и упрямую, но исключительно богатую перегноем почву.
Белотурка (тип твердой пшеницы).
Карльтон внимательно изучил их работу и простые остроумные орудия и с этими новыми данными о почвах вернулся в Америку.
Прямо с поезда он отправился в Департамент земледелия. Он предстал перед чиновниками, развернул карту западной равнины перед их сморщенными носами, резким взмахом карандаша провел две гигантских черты на несколько градусов западнее и восточнее сотого меридиана — от Дакоты (на севере) до Техаса (на юге).
— Вот здесь должна расти твердая русская пшеница! — коротко сказал он.
Через некоторое время Карльтон с присущей ему пылкостью отправился пропагандировать свою пшеницу по всему необъятному простору западной равнины. В самых проклятых, выжженных солнцем местах, где ни один нормальный человек не решился бы возделывать пшеницу, можно было увидеть его могучую фигуру и черную войлочную шляпу.
— Попробуйте вот эту пшеницу! Сделайте опыт! Эта твердая пшеница у вас пойдет! — взывал он к поселенцам, этим суровым детям равнины с потрескавшимися губами, дубленой кожей и куриными лапками около глаз. — Чем хуже условия, тем лучший хлеб вы получите из этой пшеницы…
Между тем грандиозный опыт Карльтона все шире и шире распространялся по прерии. Он посеял кубанку в самых далеких и сухих окраинах запада. Затем он разослал ее семена во все концы Великой равнины, во все широты от Техаса до долины Красной реки.
И вот наконец твердая русская пшеница начала себя показывать. Карльтон стал получать одобрительные отзывы о ней от профессоров различных экспериментальных сельскохозяйственных станций. Один из них писал о кубанке и арнаутке: «Оба сорта великолепно перенесли засуху и даже в этот суровый год дали тридцать бушелей с акра, между тем как другие сорта дали только от двух до восьми».
Но недостаточно было одних научных сообщений, предстояло еще выдержать отчаянную борьбу, чтобы заставить американцев сеять русскую пшеницу. Карльтон начал собственными силами проталкивать кубанку на рынок. По всем направлениям он пихал, нажимал, агитировал.
Кубанка и арнаутка широко применялись в Европе для производства макарон. Жители Дакоты с пренебрежением стали называть кубанку «макаронной пшеницей».
Карльтон написал американским консулам в Лионе и Марселе, чтобы они подняли в прессе шум об американской твердой пшенице и сообщили французским любителям макарон, что в Америке возделывается макаронная пшеница не хуже русской. Но что забавнее всего, он начал убеждать американцев, что они должны сделать макароны своим национальным блюдом, столь же распространенным, как ветчина и яйца.
Чтобы укрепить корни своей возлюбленной твердой кубанки в черной и высохшей американской почве, Карльтон превратился в страстного пожирателя макарон, в новоявленного макаронного пророка. Он всецело отдался обращению людей в макаронную веру.
Тетради с записями и карты атмосферных осадков на его столе сменились руководствами по кулинарии. Он советовался с знаменитыми поварами. Он заполнял научные бюллетени, которых никто не читал, рецептами изысканнейших блюд из манной крупы, которая также делается из твердой пшеницы. Он давал подробные наставления, как печь оладьи, указывал точную температуру для приготовления манного суфле, превозносил до небес холодный пуддинг из манной крупы, который особенно приятен на вкус, если его приправить гусиным жиром.
Но в конце концов главное назначение всякой пшеницы — давать продукт первой жизненной необходимости — хороший хлеб. И вот мельники Миннеаполиса и северо-западной области подняли вой по поводу новой твердой пшеницы, которая стала появляться на их мельницах. Камни, рассчитанные на обычные мягкие сорта пшеницы, плохо справлялись с твердой кубанкой.
— Она настолько тверда, что наши жернова не в состоянии ее размолоть! — кричали они.
Они стали отчаянно ругать Карльтона и прозвали кубанку «пшеницей-ублюдком».
Тогда Карльтон отправился к ним. С широко открытыми горящими глазами он рассказывал им о мельницах на берегах далекой Волги, о том, что самый лучший хлеб в России выпекается из твердой пшеницы. Он шутливо ругался с ними. С подкупающей искренностью он обращался к их культурности, успокаивал и ободрял их.
Узнав, что один мельник в южной части Миннеаполиса размалывает твердую пшеницу, Карльтон пришел в неописуемый восторг, забросил все свои дела и помчался на мельницу.
Карльтон напек булок из двух сортов муки — из кубанки и твердой яровой пшеницы, дающей самую лучшую и популярную в Америке муку, и разослал их с соответствующими анкетами двумстам пятидесяти выдающимся людям.
Так он трудился в поте лица над своей тонкой и сложной задачей. Никогда еще ни одна научная работа не проталкивалась вперед с помощью таких странных, ненаучных и разнообразных приемов силами одного человека. Одинокий, под градом насмешек и проклятий, Карльтон протащил кубанку до решительного момента — до момента ее славной битвы с паразитом черной ржавчины.