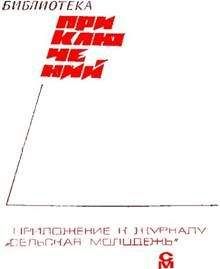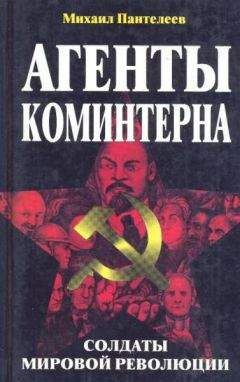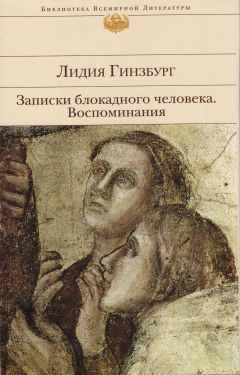Тот, кого убило, остался навсегда безымянным героем. Он похоронен в братской могиле, и к подножию его памятника приносят сегодня цветы.
Тот, кого контузило, — Еськов.
Еськова приводят из камеры, он кивает следователю, увидев меня с блокнотом, понимающе подмигивает:
— А, из редакции! Ну, пиши, пиши: «узкий лоб, звериные глаза…»
Он сидит в сатиновых брюках, в тапочках, из-под расстегнутой серой рубахи видна морская тельняшка. Зажигая спичку, держит ее, не поднося к папиросе, ждет, пока спичка не обгорит до самых пальцев.
Допросы он любит — в разговоре со следователем отдыхает от тюремной тоски, резонерствует.
Говорить умеет образно, складно и грустно, и своим умением любуется:
— Хорошо быть героем, когда за тобой армия идет, а без оружия — что сделаешь?..
О зондеркоманде:
— В зондеркоманде пасынков не было (это — о том, что все выполняли одинаковую «работу» и без исключения участвовали в расстрелах)…
— Вот — вы плотник. Лучший плотник, — значит, бригадир. А там же специальность — убийство. Лучший убийца, — значит, взводный…
О тогдашнем (43-го года) себе:
— Попал в водоворот войны, молодой был — мне тогда роща лесом казалась… Не нашел я пути, запутался, вот и все…
О себе он рассказывает охотно, особенно складно получается у него история о том, как записался в зондеркоманду. Это почти повесть, психологическая новелла, я ее здесь изложу.
…В Севастополе его подобрали, привезли в немецкий госпиталь, и это было удивительно, потому что Еськов слышал, что немцы убивают пленных на месте. Он пролежал несколько дней, его лечили, давали кое-какую еду. Палату обходил врач в фуражке с кокардой, изображавшей череп. Еськов рассмеялся: вспомнил, что врачей иногда в шутку называют «помощниками смерти». Он еще не знал, что здесь эта шутка приобретает совсем иной смысл: госпиталь находился в ведении службы безопасности — СД.
На шестой день выздоравливающих построили в колонну, повели пешком в Симферополь. На тридцатом километре колонна остановилась. Офицер сказал:
— Кому трудно идти, будет доставлен на подводах.
Сразу же объявились желающие. Их отвели за обочину дороги и расстреляли.
Из двухсот человек до Симферополя дошло пятьдесят.
Еськов был среди них.
Спасение пришло неожиданно: в лагерной канцелярии стали составлять списки уроженцев близлежащих районов — Крыма, Ставрополья, Кубани — для отправки на сельскохозяйственные работы по месту жительства.
Еськов, узнав об этом, прибежал в канцелярию, заявил, что он родом из Ставрополя. Ему ответили, что он скоро поедет домой, надо будет только немного послужить в «русском взводе» — караульная служба, охрана объектов: такое здесь правило. Сперва самая мысль о том, чтобы служить немцам, показалась чудовищной. Он уже в душе, в воображении своем, отвечал гневным отказом; это длилось секунду, пока он в душе произносил речь, а сам взял ручку, расписался в расписке и снова стал рисовать картину, как, получив от немцев оружие, перебьет охрану, взорвет какой-нибудь склад — и вот, во главе батальона военнопленных, он переходит линию фронта и… и…
Его одели в немецкую форму, на рукав нашили черную ленту с надписью: «Зондеркоманда СС 10-а».
Первые дни особенного ничего не было: занятия — строевая подготовка, топография — движение по азимуту, стрельба. Заставляли разучивать немецкие песни, русскими буквами он записывал: «Ин ай-нем грю-нен заль-де да штейт дес фёр-стерс хауз».
Пришел немец, стал проводить по-русски беседу, тема — «Речь фюрера Гитлера от 26-го числа…». Тема на завтра — «Мать и дитя в новой Германии»…
Роздал брошюрку «Зверства ОГПУ».
Еськов все это воспринимал как сон, но постепенно стал привыкать, понял, что теперь ему одна будет дорога — с немцами.
А потом — однажды утром — их, со взвода человек шесть, вызвали, погрузили в машину с червовой десяткой на кузове, и Еськов, ужаснувшись, подумал, что везут их всех на расстрел. Но когда прибыли на место и получили винтовки, успокоился, да ненадолго, потому что вскоре прибыли другие машины, откуда стали выгружать арестованных, и он понял, что не его будут расстреливать, а ему самому придется расстреливать других. И он стоял, и трясся, и хотел одного — чтобы скорее все это началось и скорее кончилось. И он услышал, как взводный сказал: «У кого слабое сердце, пусть становится на их место».
Но он уже решил, что стрелять по людям не будет, может быть, вообще не будет стрелять, а так для виду — только вскинет винтовку или, в крайнем случае, пальнет поверх голов в воздух. А когда раздалась команда, он прицелился и выстрелил в человека, и стрелял в людей до самого конца операции, и руки у него не дрожали…
Так он прослужил у немцев шесть месяцев, пока не представилась возможность отправиться в отпуск в Ставрополь. А там уж он действительно оторвался от немцев — с тех пор прошло двадцать лет…
Вот что рассказывает Еськов — бывший черноморский матрос, под тельняшкой у которого — эсэсовская татуировка, «группа крови»…
Еськов уже двадцать лет в заключении. В 1953 году он, отсидев на Колыме десять лет,[1] вышел на волю и остался там же, на Колыме, работать по вольному найму, потому что «Колыма мне второй родиной стала, все там моими руками построено: каждый дом знаю. Я ведь приехал туда, когда еще одни палатки стояли».
Была у него жена, она тоже работала по вольному найму, из бывших заключенных.
Однажды он с приятелями праздновал — пели песни, выпивали. Вдруг прибегает жена, говорит, что к ней пристал пьяный, стоит в тамбуре (в сенях), ждет, пока откроется дверь. Еськов снял со стены ружье, вышел в тамбур и выстрелил человеку в живот.
Так Еськову за убийство дали еще десять лет.
И вот он говорит:
— Я курей имел на Колыме, а убить курицу просил соседа.
Он говорит об этом не для «характеристики», а так, чуть пожимая плечами, иронически, грустно улыбаясь, как бы удивляясь несуразности жизни.
Спрашиваю, вспоминал ли он службу в зондеркоманде, и он угрюмо отвечает:
— Как не вспоминать? Вот и рвался на самую тяжелую работу, чтоб не вспоминать. Посмотрите мое дело: плотник у меня самая легкая должность, а так — разведчик, шурфовщик.
Он говорит, что не сомневается в том, что его расстреляют, и мрачно философствует:
— Смерть-то — она не страшна, страшен путь к смерти. Мне уже все равно. В двадцать лет, как попал на войну, — жизнь кончилась. Если даже не расстреляют, дадут пятнадцать лет, разве я выдержу — тридцать лет в тюрьме?..
Я слушаю его спокойный, густой голос, смотрю на улыбку его аккуратных губ и понимаю, что Еськов сейчас совершенно уверен в обратном, то есть убежден в том, что все у него обойдется и что своей горечью, грустным своим разговором он уже вызвал к себе ту спасительную «симпатию», которая подчас может оказаться сильнее фактов…
Его уводят, а на другой день я читаю его стихи, которые он написал в камере, карандашом на трех бумажных полосках:
ЭТО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ!
Двадцать лет минуло с тех пор,
Но разве можно такое забыть?
Зверский!
Кровавый!
Фашистский террор!
Правду нельзя ведь убить!
Это было в сорок втором!
Город стонал под чужим сапогом,
Город тонул в крови и слезах,
Город задохся в чужих руках.
В нашем крае тогда помещалась
Шайка убийц,
которая звалась
Зондеркоманда СС десять «а»,
«Службу смерти» она несла.
Край наш постигла беда.
Землю топтала злая орда,
Грабила, вешала, била, пытала.
Старых отцов, матерей убивала.
Даже детей…
— живьем зарывала.
Страшной команда эта была.
В зверствах своих она превзошла
Древних татар,
экзекуторов Рима,
Пилата — царя Ирусалима.
Трудно мне эти строки писать,
Но про такое нельзя забывать.
Да разве можно те годы забыть?
Разве можно опять допустить?
Чтобы недобитый зверь пришел,
Чтобы он снова войною пошел?
Чтоб не воскресла черная сила.
Нет!!! -
говорят народы мира.
Нет!!! говорят они войне.
Мир будет вечно на земле!
Он передает эти бумажки следователю и удовлетворенно закуривает, потому что верит в силу фраз, в то, что, какие бы ни натворил он дела, не дело важно, а слово, правильно сказанное.
И опять я слышу его густой, грустный голос: