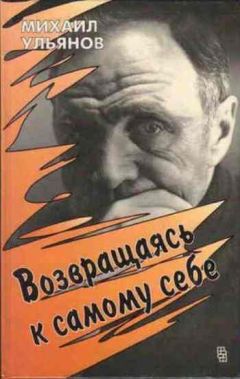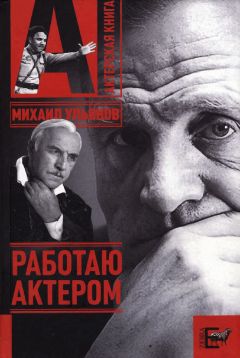В этой роли можно бы многое рассказать об истории нашей страны, ибо этот человек, как никто, выражал историю своей страны.
Я вот до сих пор не могу понять: если было так, как пишут сейчас, что Россия в 1911–1913 годах была страной процветающей; что мы в те годы завалили всю Европу зерном, завалили саму масляную Голландию маслом, а Париж — мясом; что наши Путиловы, Рябушинские, Щукины, Морозовы, промышленники и купцы, развивали могучую промышленность, да и в образовании национальной интеллигенции, талантливых ученых она, Россия, шла впереди планеты всей, то как же могло случиться, что победила стихия бунта революция?
И ведь да, действительно, какие-то следы тех высот мы еще застали. Например, качество гимназического образования: моя покойная теща Бог знает когда училась в гимназии немецкому языку, а она его до самой смерти помнила.
Смотришь на фотографии наших дедов, когда они были гимназистами: среди них учителя — почти все за исключением одной-двух дам, все мужчины. А наши школьные фотографии — как раз все наоборот, а то и вовсе ни одного мужчины-педагога, а у женщин-учительниц такие несчастные, замученные лица. Не видно ни достоинства, ни желания учить кого-то и воспитывать…
Наверное, все же нельзя сказать, что тогдашняя Россия была правовым государством, наверное, нельзя. Но по сравнению с нашим временем в этом отношении она давала сто очков вперед. Мне могут напомнить 9 января, Кровавое воскресенье. Но вместе с этим постыдным и ужасным событием были и другие примеры. Столь же общеизвестен факт, что брат казненного цареубийцы Александра Ульянова — Владимир — не изгнан из гимназии, напротив, награжден за успехи золотой медалью, ему разрешено поступить в университет, получить профессию — общественно значимую — юрист! — и работать. Ну-ка, что бы ждало такого брата в наше время?!
А возьмите «врагов режима» — революционеров: как жили они в своих так называемых ссылках? Так не жили и свободные крестьяне. Они неплохо питались, по крайней мере — мясо ели. Ходили на рыбалку, ходили на охоту. Общались. Разговаривали. Получали книги и журналы. Впоследствии большевики исправили такие упущения в уложении о наказаниях. Они понимали — по себе знали — что такие ссылки никого не устрашат. Уж они-то расправлялись по-другому со своими не только что врагами, а просто несогласными. Они создали такое, что еще долгие годы люди будут вспоминать с ужасом. И этот ужас начался с первых же шагов революции и гражданской войны.
Но на том, предреволюционном, пути Россия, по множеству свидетельств и фактов, зафиксированных историей, все-таки двигалась в сторону изобилия и Права. И буржуазная революция февраля смела, наверное, многие несоответствия с этого пути… Но большевикам удалось перехватить руль. Безусловно, мы знаем об этом, существовало множество объективных причин: прежде всего, война и в связи с нею — озлобление народа и неустойчивость власти после свержения царизма. Но разве сбросить со счета колоссальную волю Ленина, вождя большевиков? Так как же не думать сегодня об этом? И перед искусством сегодняшним просто долг: думать, увидеть, понять этот «субъективный фактор», этот сгусток человеческой воли — В.И. Ленина. Потому — настоящая работа с Лениным на сцене — еще впереди. Настоящее зеркало — без тумана и других огрехов изображения — еще не отлито.
Ну, а теперь о моем опыте игры в образе Ленина.
Никаких открытий я сделать, понятно, не мог. Не в моих то было силах, как не по силам и времени моему. Но тем не менее я старался убрать из характера Ленина ту навязчивую улыбчивость, добротцу, простотцу, мягкость, какую-то подчеркнуто назойливую человечность, которой как бы в нос зрителя тыкали и внушали: вот, видишь, какой человечный, а ведь гений… Мне хотелось чуть пожестче сыграть.
Не случайно мои товарищи по цеху негромко так, чтоб не дошло до иных ушей, говорили: «Что ж он у тебя такой жесткий, непривычный?»
А размышлял я очень банально и просто: не мог человек в ночь переворота, когда решалась судьба и России и его самого, его мечты о социалистической революции, не мог быть таким вот милым и улыбчивым. Или, вернее сказать, я не мог себе представить, чтобы Ленин был в ту ночь вот таким.
Мне думалось, он в те часы был предельно сосредоточен и напряжен. Точно кулак сжат. А точнее — как стиснуты челюсти последним напряжением воли! Думаю, ему было не до сантиментов. И глупо в эту пору, в эти минуты заниматься чаями-кофеями и всякой другой ерундой. Чем и занимались мнопие исполнители роли Ленина.
Я же подходил к солдату, брал за ремень винтовки и, весь в напряжении, — какие уж тут улыбки — спрашивал: «Так пойдут воевать или не пойдут?» Ему жизненно важно было знать, пойдет солдат с революционерами или не пойдет, победит революция или нет. Вот суть этой довольно примитивной сценки в спектакле «Человек с ружьем». Тем не менее, несмотря на свою примитивность, она вошла в историю русского театра как некое открытие, что ли, в подаче роли Ленина.
В связи с этим, кстати, мне подумалось вот о чем: ведь никогда раньше царей-батюшек на сцене не изображали. Вероятно, это считалось кощунством. Как это: какой-то скоморох — наша профессия в глазах знати выглядела полупристойной — выйдет на сцену Мариинского или Александринки и будет изображать «из себя» русского императора! И зачем его вообще изображать, когда вот он, существует вживе.
Запечатлеть Екатерину Великую на портрете — это одно, но представить ее на сцене какой-то актрисе без роду без племени… У нас же при жизни Сталина десятки «Сталиных», попыхивая трубкой, выходили на сцену.
То, что мы разыгрывали на сцене в те годы, это была как бы мистерия, наподобие той, что разыгрываются в дни религиозных праздников у католиков. Играют, ритуально точно повторяя сценки из Библии, сюжеты, оторванные от истинной жизни, от конкретных людей, но освященные церковью, но навсегда затверженные в малейших деталях, в любом своем повороте…
У нас в семидесятые годы и в самой жизни было немало таких ритуальных действ, игр всерьез. Одна из таких игр — игра в бригады коммунистического труда. Вот и мы, актеры вахтанговские, были распределены по бригадам комтруда завода «Динамо». Я был в бригаде Бориса Козина. Боря, кстати, хитрый мужик, хоть и играл, как все, в «коммунистический труд», но «помнил свой кисет»: пользуясь моим «членством» в своей бригаде, пробил себе и гараж, и холодильник — он меня науськивал, чтобы я ходил и все это клянчил у директора завода, буде я был к нему вхож. И не один Боря был таким. Он не лучше и не хуже других — жил нормально, а как же иначе, если тогда все про все приходилось «доставать».
Ну, а наша, так сказать, витринная жизнь в бригаде коммунистического труда заключалась в том, что мы, артисты, и рабочие бригады как бы делились друг с другом своими делами и достижениями. Я им — про театр рассказываю, они мне — про выточку деталей. При том, что им до смерти тоскливо слушать про театр и про то, как я играю, и мне тоже не намного веселей было вникать в процесс выточки деталей.
Конечно, я должен был показывать бригаде все свои работы в театре и кино: «Вот, ребята, что я сделал». Кинокартины я привозил прямо на завод, а на спектакли бригада шла в театр. Смотрели они и «Человека с ружьем». Я играл Ленина так, как рассказывал здесь выше: жесткого, угруюмоватого, сосредоточенного. И вот мой бригадир, отечески взяв меня за плечо, сказал:
— А Владимир Ильич был другой.
— Какой же?
— Он был мягче, — убежденно сказал мой бригадир, человек лет на пятнадцать моложе меня, но он уже до мозга костей был пропитан, начиная с детсада, как все советские люди, не отягощенные излишним знанием или хотя бы любопытством, был пропитан «знанием», продиктованным партийной пропагандой, партийным искусством, партийной школой. К тому же — и это тоже было уже на уровне подсознания — он, Боря, был рабочий. И мало того рабочий передового завода «Динамо»; и этого мало: он был бригадиром рабочей бригады коммунистического труда передового завода «Динамо». А я интеллигент, актер, да еще как бы отданный в его бригаду на воспитание. Вот он, ничтоже сумняшеся, и воспитывал меня.
Так заморачивали мы все мозги народу. Ленин был мягче, добрее. Теплее. Одним словом, «самый человечный человек».
Но были у меня и две серьезные работы в роли Ленина. В театре это спектакль «Брестский мир», поставленный по пьесе Михаила Шатрова Робертом Стуруа. И фильмы, тоже по шатровским сценариям, снятые на телевидении к 1970 году, то есть к столетию со дня рождения Ленина, а показанные… через двадцать лет.
Михаил Шатров много занимался Лениным и был непревзойденным мастером документа: документального, если можно так сказать, Ленина. Драматург понимал, что какие-то художественные сочинения на эту тему просто не допустят, и создал целую серию недлинных — на час, час двадцать — картин, в которых отражались те или иные события или просто эпизоды из жизни Ленина. Это были строго документальные произведения. Все оттенки того времени, все высказывания Ленина и его сподвижников или врагов черпались из существовавших к тому времени записок, партийных протоколов, не говоря уж о статьях и других работах самого Ленина.