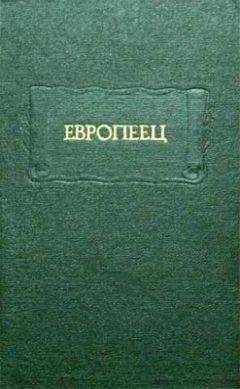«Теперь министерство переменилось[9], как вы увидите из газет. Тьерс, написавший Историю Французской Революции, будет помощником государственного секретаря по части финансов, следовательно, почти тоже, что министр. Я знал его прежде. Ему нет еще, я думаю, тридцати лет. Когда мы были в Париже, он приехал к нам с Минье[10], своим земляком, и не имел ни связей, ни знакомых. Один немец, мой приятель, принял участие в молодых людях и взял их на свои руки, а теперь один из них государственный советник, а другой министр! Как здесь людям везет! Это тоже, что сделать министром Гейне или Менцеля[11], или меня. А мы, что? Бедный немецкий ученый пожелтел с досады и зависти, видя, как счастье ласкает французских писателей. Кроме множества денег за сочинения, они получают еще и места от правительства. Стендаль готовится ехать в Триест, где ему дали место консула. Вите[12] (Vitet), который пишет так называемые исторические романы: Henri III, les Barricales, les Etats de Blois, теперь получил должность, в которой я ему завидую. Он сделан conservateur des monuments d'antiquité de la France7*. Такого места прежде никогда не было, и министр Гизо[13] создал его для Вите, которому он покровительствовал. Должность его состоит в том, чтобы ежегодно раза по два объезжать Францию, осматривать древние здания, храмы, амфитеатры, водопроводы, церкви, построенные во времена римлян или в средние века, и сохранять их от разрушения. За это он получает ежегодно тридцать тысяч франков, и сверх того ему выдаются еще путевые деньги. Можно ли найти место приятнее для такого человека, как я, с моею ленью и с моею страстию к путешествиям. Поневоле треснешься головой об стену с досады, что мы, немцы, и что не можем вылезти из нашей бедности и ничтожества. Правда, в Германии делается много для искусств и наук; но для художников и ученых не делается ровно ничего. Здесь правительство ежегодно выдает награды за лучшие произведения живописи, ваяния, литографии, музыки и других искусств. Самая большая награда состоит в том, что художник в продолжении пяти лет получает ежегодно по 5000 франков и за то обязан употребить это время на свое образование в Риме. Немцу обязанность жить в Риме покажется смешною, потому что он в Риме живет охотнее, чем в Берлине или Карлсру. Но французам это часто кажется стеснением: они не охотно расстаются с Парижем. Еще на прошедшей неделе один молодой человек по имени Берлио[14] (Berlioz) получил первую награду за музыкальные сочинения. (Я его знаю и люблю: у него на лице виден гений.) Случается ли у нас что-нибудь подобное? Вспомните о Беетговене. О! меня это бесит! Пришлите мне коробок с немецкою землею: я ее съем; это полезно от изжоги, и я рад буду хоть символически уничтожить и проглотить эту проклятую землю!» Менцель, который повторяет эти слова в своей газете (Literatur Blatt), не разделяет мнения Берне. «Слава Богу, — говорит он, — что мы не на службе и не только можем, но даже принуждены носить мундир обще-человеческий, или обще-немецкий, а не Рейс-Грейц-Шлейцский, или Вадуцкий. Очень естественно, что при теперешних обстоятельствах Германии правительство не печется о людях, отличающихся своим умом. В области гения нельзя провести таких таможенных линий, какие вдоль и поперек проведены в Германии. Крылатый гений не годится в таможенные чиновники; его нельзя употреблять на мелочные дела и выгоды. Гений всегда остается при своей полноте, и нельзя его дробить, как Германию, на сотни участков. Великий германский гений находится по всю жизнь точно в том же положении, в каком г-жа Сталь[15] и г. Шатобриан[16] были на короткое время. Говорили, что Франции не достает Шатобриана, а Шатобриану Франции. Точно так же можно сказать, что Германия и ее высокие умы вечно в друг друге нуждаются»[17].
Мы не имели случая видеть новой книги Берне; но выписываем некоторою места из нее, помещенные в той же газете Менцеля. Рассказывая многое о блестящих событиях в мире искусств и театров, он, между прочим, рисует отменно забавный портрет Паганини, которого сходство, говорит Менцель, поразит, каждого, кто слышал великого виртуоза на струне G[18]. «Не могу вам выразить словами того впечатления, которое Паганини произвел первым своим концертом. Я мог бы только выразить его на его собственной скрипке, если б она была моя. Это небесное, дьявольское вдохновение. Я в жизнь свою не слыхал и не видел ничего подобного. Этот народ сумасшедший, и между ним поневоле сойдешь с ума. Внимание было так напряжено, что никто не смел дышать; даже необходимое биение сердца мешало и досаждало. Когда он вышел на сцену, и еще прежде нежели стал играть, все его встретили громкими восклицаниями. Посмотрели бы вы на него! Он шатался, как пьяный. Он толкал свои собственные ноги и наступал на них. Он то протягивал руки к небу, то опускал вниз; то простирал к кулисам, умоляя и небо, и землю, и людей, чтобы они помогли ему в жестоком положении. Потом он останавливался с руками распростертыми, как распятый: широко разевал рот и как будто спрашивал: мне ли это? В неловкости своей он был чрезвычайно живописен»[19]. Вот что Берне говорит о Тальони[20], известной танцовщице; «Флора меня особенно восхищала: в ее движениях такое слияние огня и грации, живости и умеренности, какого я не видал ни у одной танцовщицы. Она летала около самой себя: была и цветок и мотылек в одно время. Казалось, она не двигалась, а сам воздух то подымал, то опускал ее; небо и земля оспаривали ее друг у друга. «Кто эта танцовщица?» — спросил я у моего соседа в ложе, человека в лет пятьдесят, очень важной наружности. Как посмотрел он на меня! «Mais… c'est mademoiselle Taglioni!»8* — отвечал он наконец. Если бы я спросил у него лет двадцать тому назад, у парада на Марсовом поле: кто этот маленький человек на лошади, в сером сюртуке и низенькой шляпе?… он не мог бы на моня больше вытаращить глаз и отвечать с большим удивлением: mais, c'est Napoléon!9* С тех пор я опять видел, как она танцевала: но она понравилась мне меньше, чем в первый раз: я открыл в ней недостатки. Вся душа ее в ногах; ее лицо мертво. Я заметил это и в первый раз, но тогда она играла богиню Флору; ее неподвижность показалась мне древним спокойствием и не повредила наслаждению. Во второй раз она играла Баядеру, влюбленную, нечастную, страстную Баядеру: ее пляска выражала слияние наслаждения и грусти; но лицо и глаза — спали. Либо стекло моей зрительной трубки было тускло, либо прекрасная Тальони глупа и не понимает своих ног»[21].
В Англии недавно вышла книга под названием: Записки о Себастиане Каботе[1], с приложением обозрения морских открытий. Конечно, немногие из наших читателей знают о Себастиане Каботе, и несмотря на то, он оспаривает у Колумба и Америга Веспуция[2] честь открытия Америки. Чтобы рассеять незаслуженный мрак, лежавший на имени славного мореходца, автор написал вышеназванную книгу, — имея возможность пользоваться из архивов такими документами, которые уничтожают всякое сомнение. Себастиан Кабот, по словам испанского писателя Гомары[3] и других, был сын одного венецианца, жившего в Бристоле. Там он родился, рано сделался моряком и во время одного из своих путешествий по северным морям дошел до гораздо высшего градуса с. широты, нежели как до сих пор думали. Кабот хотел найти дорогу в Китай через северные моря, чтобы сократить переезд в Индию; он достиг, по словам де-Бри, Бельфореста Шофтопа и других, 68-го С. Ш.[4], был, как кажется, истинным открытелем залива, который позднее назван Гудсоновым, и не мог идти далее оттого, что был остановлен бунтом на его корабле. Часть Америки, которую Кабот в первый раз увидел 24 июля 1497, была не Ньюфоундланд, как обыкновенно думают, а маленький остров под 56-о С. Ш. у самого Лабрадорского берега. Это объясняет много, что осталось бы необъяснимо, если бы мы каботово описание этого острова стали применять к земле, теперь называемой Ньюфоундланд, забывая, что это имя давалось и материку и всем новооткрытым островам.
О времени первого открытия Американского материка Каботом многие писатели говорили совершенно несправедливо. Но один патент, найденный в архиве, уничтожает всякое сомнение и бесспорно отдает Каботу высокую честь истинного открытия Америки. Этот документ, писанный 5 февраля 1498, заключает в себе подробное исчисление всех земель и островов, уже открытых Каботом, и это исчисление, вместе с картою, им начертанною (которая несколько лет висела в Вайтгале[5] (Whitehall), доказывает ясно, что Кабот был в тех странах прежде Колумба и Веспуция.