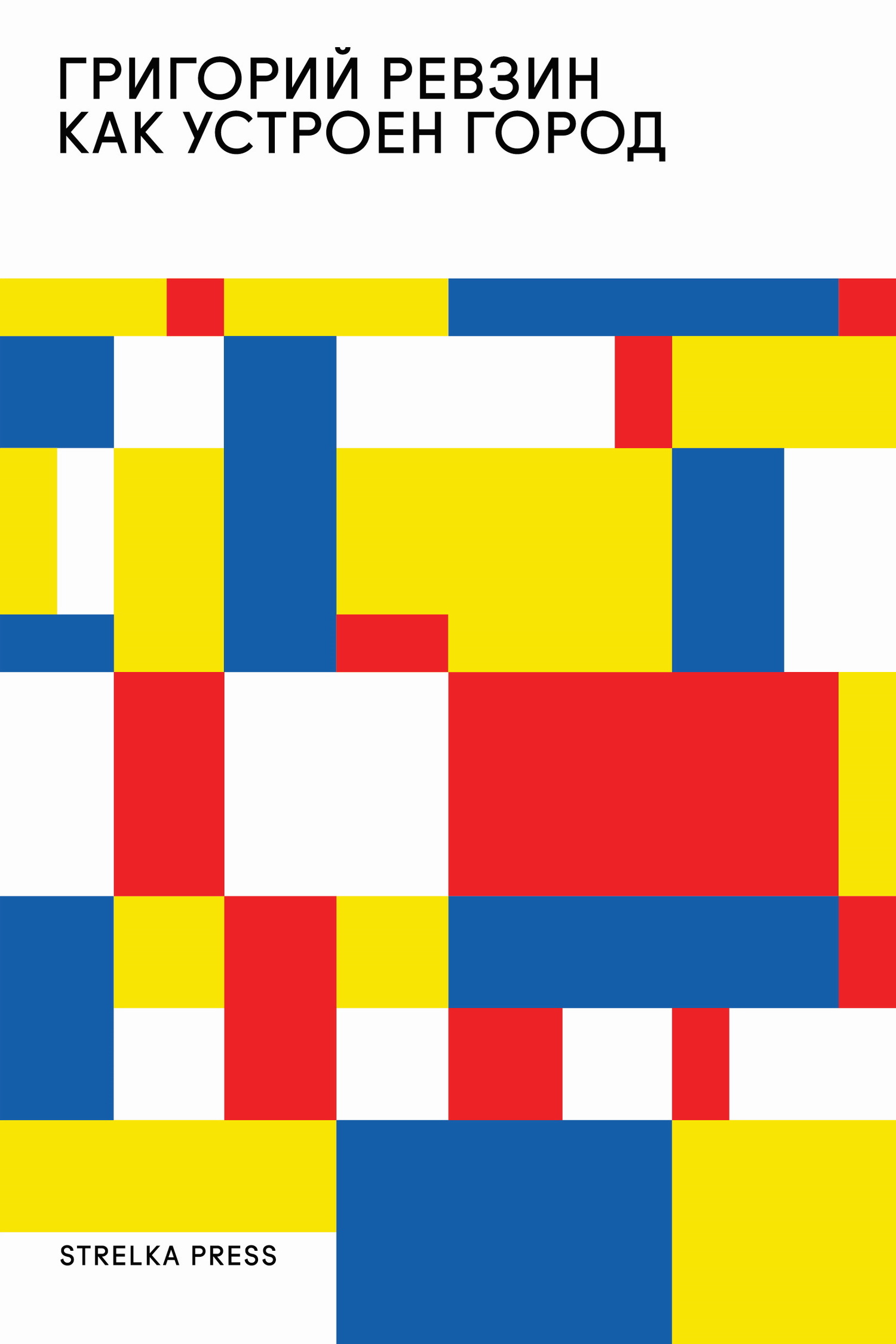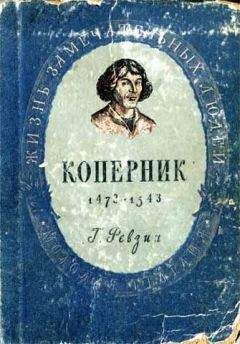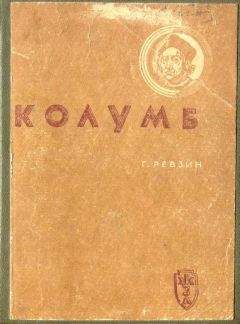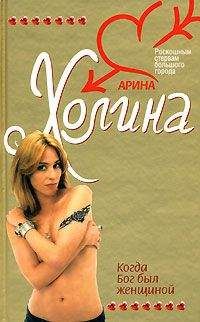Хайдеггера из его эссе «Исток художественного творения».
Стоя на своем месте, храм впервые придает вещам их вид, а людям впервые дарует взгляд на самих себя. И такой вид и такой взгляд до тех пор остается разверстым, пока творение остается творением и пока бог не оставил его. То же самое и скульптурное изображение бога, которое посвящает ему победитель игр. Бог изображается не для того, чтобы легче было принять к сведению, как он выглядит; изображение – это творение, которое дает богу пребывать, а потому само есть бог. То же самое и творение слова. В трагедии ничто не выводится и не представляется на сцене, но в ней вершится борьба новых богов против старых богов. Творение языка, воздвигаясь в сказании народа, не повествует об этой борьбе, а так преобразует сказание народа, что всякое существенное слово борется теперь этой борьбой и ставит перед выбором, что свято, а что скверно, что велико, а что мало, что доблестно, а что малодушно, что благородно, а что нестойко, что господин, а что слуга.
Но важно понимать, что это совершенно не тот храм, который мы подразумеваем, произнося это слово. Он не предполагает Небес. Он стоит на земле и землю же упорядочивает и преобразует.
У Ричарда Краутхаймера, одного из самых знаменитых историков архитектуры ХХ века, есть книга «Три христианские столицы». Она посвящена Риму, Константинополю и Милану в ранний период их христианского формирования – IV‑VII века. В этот момент мы, казалось бы, должны были встретить храмы, трансформирующие города, – христианство становится государственной имперской религией. Ничего подобного не было.
Латеранский собор в Риме, основанный Константином Великим, поставлен на окраине, у городской стены, в совершенно не примечательном ни в градостроительном, ни в религиозном смысле месте. Там даже нет могилы какого-нибудь раннехристианского святого, хотя в Риме таких мест с могилой полно. У территории одно преимущество: она частная, и строительство там храма никого не затрагивает (поразительная логика для императора). Развитие Милана определяется в этот момент ожесточенной борьбой двух партий – ортодоксов (сторонников решений Никейского собора 325 года, утвердившего Символ веры), во главе с епископом святым Амвросием Миланским, и ариан (Миланский собор 355 года отменил решения Никейского и фактически произвел арианство в официальную религию империи). Никакой концепции целостного формирования города вокруг храма нет ни у той ни у другой. Только в Константинополе, новой императорской столице, Краутхаймер видит признаки воплощения не вполне определенного «идеального града». Но при том что церковь святой Софии Константинопольской осознавалась императором как новый истинный храм, созданный как альтернатива иерусалимскому («Я превзошел тебя, Соломон» – это слова Юстиниана после того, как храм был построен), программа города восходит к римской имперской образности (триумфальная колонна со статуей императора в виде Гелиоса-Христа), а не к идеям града Небесного. Речь идет о столицах, строительство которых было подчинено программе, осуществлявшейся императорами. Но нигде нет мысли согласовать город и храм, храмы оставляют город, никто больше не считает, что весь город – это храм.
Это следствие той революции в понимании сакрального, которую Карл Ясперс называл «осевым временем». Между нами и теми древними цивилизациями, центром которых являлся хайдеггеровский храм, стоит тысячелетие господства мировых религий. И однако мы не относимся к городу-храму как к занятным непонятным особенностям культа Вицлипуцли, напротив, это очень понятная нам идея. Некоторые градостроители считают, что в общем-то так и надо строить города.
Я говорил о символической форме города в терминологии Кевина Линча. Процитирую его.
Эта логика основана на том, что форма любого устойчивого поселения должна быть магической моделью Вселенной. Форма города служит установлению божественной гармонии Космоса, предполагается прямая связь человека с богами, с помощью этой связи человек обретает свое место в структуре мироздания. Боги получают должное, устраняют хаос жизни, а жрецы и правители обретают особое положение в обществе… Эти практики предполагают одни и те же приемы. Среди них центральная ось процессий, круг стен и врата в них, высотные доминанты, сакральный центр, связь значений главных осей с движением солнца или сменой времен года (север = холод, юг = тепло, восток = начало и рождение, запад = смерть и упадок), трактовка регулярной сетки как всеобъемлющего закона построения Вселенной, иерархические композиции, симметрия как выражение полярности и дуализма… Сходство приемов основано на сходстве социальных институтов: повторяющихся религиозных ритуалах, структуре власти, социальной иерархии и т. д. За этим стоят первичные ценности порядка, стабильности, господства и превыше всего отрицание времени, упадка, смерти и случайности.
Линч выделял следующие свойства «сакральных городов»: 1) центральная ось процессий, 2) высотные доминанты, 3) сакральный центр, 4) значимые главные оси, 5) регулярная сетка как закон построения Вселенной, 6) иерархические композиции, 7) симметрия. Это очень похоже на то, что говорит Элиаде о святилищах древности. И одновременно это очень похоже на нечто хорошо нам знакомое. Это основные элементы классического европейского градостроительства. Это язык барочного Рима и классицистического Вашингтона, ампирного и эклектического Парижа, сталинской Москвы и гитлеровского Берлина. Это то, что в традиционном градостроительстве называется архитектурным ансамблем. Отличие только в том, что в этих городах-храмах может не быть собственно храмов. Их заменяют другие здания, вроде Дворца Советов или Триумфальной арки в Париже, а может вообще ничего не заменять. Сам город и является храмом, и работает ровно так же, как и хайдеггеровский храм. Он нам ясно показывает, «что господин, а что слуга».
Как это возможно? Как может быть, чтобы цивилизация вернулась к этому архаическому пониманию города? Ведь это не изобретение колеса и не выращивание пшеницы, это не навыки, которые люди не теряют никогда, – напротив, это развитый образный язык, который связан с очень выраженными историческими структурами сознания. И вдруг – через тысячелетие – происходит возрождение города-храма.
Есть разные предположения о том, когда именно умер Бог. Некоторые придерживаются официальной даты смерти – 1883 год, когда Ницше написал «Так говорил Заратустра». Некоторые считают, что это произошло уже в 1802‑м, когда Пьер‑Симон Лаплас преподнес Наполеону свою «Небесную механику» и на вопрос императора: «А где же здесь Бог?» ответил: «Я не нуждаюсь в этой гипотезе». Кто-то указывает на 1794‑й, когда эбертисты (последователи Жака‑Рене Эбера) приняли культ Разума в качестве официальной религии революционной Франции. Можно сказать, он долго болел и долго умирал, и знание, что с ним что-то нехорошо, сопровождает европейскую цивилизацию с начала Нового времени. Но так или иначе, после или на фоне его смерти мы сталкиваемся с принципиально новой ситуацией. Бог оставил город. Что делать?
Я хотел бы