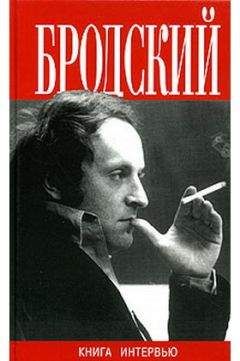Второй вопрос не менее интересен: сказал ли Бродский о себе в этих интервью нечто новое, чего не найти в его стихах? Принимая во внимание, что "я" в интервью, в отличие or стихов, тождественно биографической личности поэта ("интервью, как и биография, — последний бастион реализма", 1991а), небезынтересно проследить параллели и контрасты между автопортретом поэта в стихах и в интервью. Предстает ли перед нами "я" поэта в более "чистом" виде в жанре, в котором так трудно спрятаться за маску метафоры, двойника или стороннего наблюдателя? По признанию самого Бродского, в интервью, как и в прозе вообще, "горох летит во все стороны, поэзия же удерживает его в плотно закрытом горшке" ("is spelling some beans, which poetry […] contains in a tight pod"; 1987a: 527).
Первое, что обращает на себя внимание в отношении Бродского к самому себе, — это тот факт, что в интервью, как и в стихах, Бродский пытается поставить в центр свое творчество, любую абстрактную идею, только не свою личность. Категорически отказывается определять себя как на бумаге, так и устно. Постоянно протестует, когда его просят прокомментировать те или иные события его жизни. Но жанр интервью обязывает его сказать о себе больше того, чем ему хотелось бы, и он вынужден говорить о себе то, что о нем хотят знать другие. Это, в частности, касается вопроса о вере, который Бродский считал в высшей степени частным делом каждого человека. Он либо уходит вообще от ответа на этот вопрос, либо дает на него полушутливый ответ, заявляя, что он плохой еврей, плохой русский, плохой американец, плохой христианин, но зато хороший поэт; либо всерьез называет себя кальвинистом: "В том смысле, что ты сам себе судья и сам судишь себя суровее, чем Всемогущий. Ты не проявишь к себе милости и всепрощения. Ты сам себе последний, часто довольно страшный суд". (1995i: 21.) В стихах же он существует как бы для самого себя и говорит о себе только то, что хочет уяснить сам и себе: "Меня в изящной словесности интересует главным образом процесс и то, что это производит в моем сознании". (1988b: 152.) Как это ни странно, несовпадение этих двух точек зрения на себя совсем не отражается на принципах автопортрета — рования в этих столь различных жанрах.
Исследователями творчества Бродского давно замечено, что он не менял ни своих симпатий, ни своих оценок. Кажется, что мало менялся и он сам. Так, начало Нобелевской речи: "Для человека, частного и частность эту всю жизнь какой-то общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко — и в частности, от родины…" — было сформулировано им еще в первые дни высылки из СССР: "Я абсолютно частный человек, и в этом источник моих неприятностей". (1972с: 7.) И все дальнейшие годы изгнания Бродский с отвращением отвергал все попытки западных журналистов сделать из него политический символ: "Я привык к одной простой вещи, всю жизнь […] жить на отшибе, на краю прихода, стоять как бы в стороне, то есть в лучшем случае комментировать происходящее и непроисходящее.
Как бы благородный наблюдатель; может быть, даже неблагородный, но наблюдатель". (1988b: 146, см. также 1979а: 54; 1992h: 40.) В стихах этот "наблюдатель" появился еще в 1962 году, открывая длинный список безымянных тропов (метафор и сравнений), замещающих поэтическую личность. Бродский повторяет эту мысль и в одном из своих более поздних интервью: "Писатель в некотором смысле не является активным членом общества, он скорее наблюдатель, и это до известной степени ставит его вне общества". (1990d: 382.) Речь идет о том самом чувстве отстраняющей дистанции, которое так необходимо обрести любому поэту и писателю, научиться видеть себя со стороны: "Что, в сущности, и есть автопортрет. / Шаг в сторону от собственного тела".
Было бы ошибкой думать, что Бродский постоянен во всем. И тут не избежать оценочных суждений. При внимательном перечитывании собранных нами интервью невозможно не заметить, что Бродский всегда несколько другой с разными собеседниками. Мы чувствуем, что он не безразличен ни к внешнему виду, ни к эрудиции (тем более к отсутствию оной), ни к титулу своих собеседников. Степень искренности и щедрости его ответов часто не зависит ни от его настроения, ни от его физического состояния на данный момент, ни от недостатка времени и даже не определяется его пресловутым темпераментом "близнеца", а проистекает исключительно из того факта, нравится ли ему человек, сидящий перед ним, или нет, и больше не из каких других соображений. Произвольность — качество, которое от приписывал Всевышнему (1987i: 8), — в значительной степени была свойством его собственного характера. Похоже, свое знаменитое кредо, которое он настойчиво повторяет в нескольких интервью, что "эстетика — мать этики, а не наоборот" (1989е, 1994с), он практиковал и в жизни. Демократичность, дающая о себе знать в стихах, в частности в недискриминированном словаре, заявлена и в разговорах ("поэт […] прирожденный демократ", 1982с: 16), но слишком уж для демократа высокомерно. Ему часто совершенно безразлично, удовлетворяют ли его ответы спрашивающего; это намекает на масштаб его сарказма. Его пресловутая ирония направлена не только на самого себя, но и на собеседника.
Бродский несколько раз повторяет слова японского писателя Акутагавы Рюноске: "У меня нет принципов, у меня есть только нервы". (1991а, 1991 т.) Жизнь в несвободной России, похоже, была лучшим испытанием для его нервов: "Я всегда чувствовал себя свободным. […] Я знал, что я зол, каким-то образом я знал, что я силен. Я знал, что я упрям. […] Мне хотелось создать в себе нечто, возможно, очень небольшое, но очень компактное, по отношению к огромному давлению извне. […] Я полагал, что это должно быть или чувство достоинства, человеческого достоинства, или чувство смысла. […] Некоторое подобие вектора души". (1987о: 434.) О том, какую цену платит человек за создание собственного мира, живя в мире тирании, Бродский говорит в одном из своих первых интервью на Западе: "Человек, решивший создать свой собственный независимый мир внутри себя, рано или поздно непременно становится в своем обществе инородным телом, а затем и объектом давления физических законов сжатия и вытеснения". (1972d: 150.) Он развивает эту мысль в эссе о Мандельштаме. Бродский верил, что сам по себе талант еще не делает человека хорошим, что хорошим человеком надо становиться, над этим надо работать. "Я занят внутренним совершенством", — заявляет Бродский совсем не иронически в стихотворении 1967 года. "На каком-то этапе я понял, что я сумма своих действий, поступков, а не сумма своих намерений". (1991j: 61.)
О цельности Бродского — поэта и человека свидетельствуют многие его высказывания. Протест против пафоса и мелодрамы звучит особенно настойчиво в ответах на однотипные вопросы о преследовании властями на родине: "У меня нет никаких негативных чувств" (1972b: 10); "я не принимал систему. Следовательно, они имели право посадить меня за решетку". (1980d: 49.) То же самое он повторяет и через десять лет: "Я совершенно мог бы оправдать советскую власть постольку, поскольку она давала по морде мне, — то есть мне наплевать, я-то считаю, что я вообще все это заслужил". (1991j: 61–62.) Он не отказывается от своего прошлого: "Я результат всего того, что там со мной произошло: где прожил, кого я видел, по какой улице шел". (199If: 18.) Ему не откажешь в трезвой оценке всего с ним случившегося: "То, что происходит в голове, беспокоит нас гораздо больше, чем то, что делается с нашим телом" (1982с: 14); или: "Советская власть могла арестовать мое тело, но ей было не добраться до моего духа". (1984b: 197.)
Он никогда не чувствовал себя обиженным своей страной, "никогда не позволял себе быть жертвой. Ни там, ни здесь. […] Я предпочитаю имитировать храброго человека, чем быть настоящим неудачником". (1985: 12.)
И, играя роль храброго человека, Бродский решил отнестись к своему изгнанию как к нормальному состоянию, рассматривая его "как проигрыш абсолютно классического варианта, по крайней мере XIX или XVII века, если не просто античности" (1983а): "Новая земля. Новые люди. Но небо то же самое. И я тот же". (1972с: 8.) Через три года это отзовется в стихах: "Я увидел новые небеса / и такую же землю". В интервью он объясняет, как пришел к такому решению: "Когда я приехал сюда, я сказал себе: не делай из этих перемен большой проблемы, веди себя так, кз. к будто ничего не произошло. Я так себя и Повел […]. В настоящем, я думаю, что маска приросла к лицу. Я ее больше не чувствую, не провожу различия". (1979а: 62.) Газетные заголовки интервью с ним: "Поэт в изгнании" (1973а, 1975), "Муза в изгнании" (1973а), "Гений в изгнании" (1987о) резали Бродскому слух, он предпочитал говорить, что просто живет за границей, и, сравнивая свою ситуацию с положением тысячи простых людей, которые по тем или иным причинам вынуждены были покинуть родину, он считал, что ему крупно повезло: он из худшего переехал в лучшее. (1992d: 554.) А главное, настаивает Бродский, его духовный дом — русская литература, и из этого дома его нельзя изгнать никакими средствами. (1991k: 141.) Из состояния изгнания извлекается максимальная польза для самопознания: "Как-то четче видишь самого себя на новом фоне. […] Полезно бывает избавиться от множества иллюзий. Не относительно человечества в целом — от иллюзий на собственный счет". (1979b: 106; см. также 1980b: А2.)