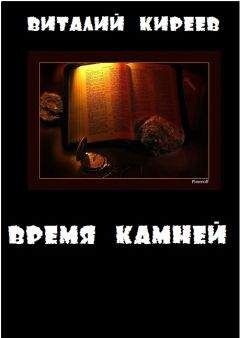Гузнищева и Паршина, одинаково виновны, и нет нам прощения.
Анатолий Иванович Гузнищев – узкий лоб под короткой стрижкой, скуластое с щеками впалыми, чуть желтоватое лицо, сам худощавый, жилистый и очень, очень серьезный. Не оттого, что хочет таким казаться. В компании любит шутку, хороший соленый анекдот. Скалится тогда, выставляя напоказ крупные, лошадиные, пожелтевшие от курева зубы. Но только в компании, да еще и выпив. А так предельно собран, серьезен, задумчив. Это не поза, это позиция. В нем за версту чувствуется мужик, воин. В мешковатом дешевом костюме, скрывающем в кармане желтый, даже коричневый от времени протез руки, он сразу вызывал уважение и даже некоторое почтение у всех, включая наших преподавателей. Такое словами, даже самыми умными и нужными, не завоюешь. Это приходит только с опытом, горьким и тяжелым. Того и другого он хватил с лихвой.
Ветеран войны в Корее, участие в которой тогда Советский Союз официально отрицал. От него мы услышали много интересного. В Корею попал уже послужившим солдатом. На месте освоил приемы ближнего и дальнего боя, а когда набрался опыта, был заброшен с разведовательно-диверсионным отрядом в южную часть корейского полуострова, контролируемую американцами. Чем они там занимались, даже в самом сильном подпитии Анатолий Иванович умалчивал.
Там его ранили, да так, что очнулся лишь в госпитале на территории сопредельного государства. Оттуда, чуть оклемавшегося, переправили в Монголию, и уже в ней прошел полный курс лечения и реабилитации, длившийся полтора года. «У меня ведь руку тогда оторвало. Подземным тоннелем в бессознательном состоянии перетащили. Руку пришлось отнять. Крови потерял столько, что сейчас она у меня монгольская или китайская. А с рукой помучился. С год или, может, дольше мучали боли в несуществующей руке, такие, что хоть кричи. Кололи морфий. Потом сам отказался, видел, как ребята подсаживались на него. Терпел, сцепя зубы».
Возвратившись домой, едва не лишился матери. Увидев сына, она упала в обморок, далее – сердечный приступ. Еле откачали. Оказывается, его переправляли тоннелем корейские или китайские партизаны. Но он уходил на задание, оставив все документы, вообще все, что могло бы указать на его принадлежность к северокорейской и уж, тем паче, – к советской армии. Дали ему свое корейское имя, с которым он и лечился.
– Но в Монголии-то уже под своим именем был, почему не сообщил домой?
– Запрещали.
Время лечит. Подкормился дома, да и женился. Даже двух сыновей сообразил.
Прибыл в институт, надо полагать, с направлением соответствующих органов, озаботившихся тем, куда пристроить раненого ветерана. Потому его, единственного, приняли, несмотря на неудовлетворительную оценку на вступительном экзамене по русскому языку, оговорив условием пересдачу экзамена по завершении первого учебного полугодия. Толик, из нас самый старший, стал нашим старостой и оставался им до конца учебы, не роняя авторитета и уважения, что в молодежном коллективе не просто.
По окончании распределился в школу в Чебакове. Вскоре стал директором. Думаю, неплохим. Возвращаясь из Ярославля с какого-то совещания директоров, опаздывал на последнюю электричку. Запрыгивал на ходу. А рука-то одна. Сорвался – и под колеса…
Под стать Гузнищеву Алексей Паршин. Пришел, честно сдав все вступительные экзамены. До того отработал несколько лет в сельской школе учителем. Спрашивается, зачем пришел? За дипломом. Его судьба – яркое подтверждение истины о неисповедимости воли Божией. Родом из забытого и забитого Верхотурья, он юношей, мечтая о карьере если не разведчика, то контрразведчика, преодолев значительный конкурс таких же романтиков «плаща и кинжала», поступил в училище госбезопасности, если не ошибаюсь, в Свердловске. И почти закончил его. До выпуска оставались считанные дни. И тут арестовали всесильного шефа Лаврентия Берию. А училище носит его имя. Училище расформировали, то есть распустили курсантов по домам. Так что, проучившись пять лет, оказался ни с чем. В себя приходил, работая в интернате села Великое Гаврилов-Ямского района.
Леша полнолицый и полнотелый, но без пуза, уже тогда с лысиной от затылка, с хитроватым взглядом коричневых глаз, в лидеры не рвался, и никто его туда не тянул. Он всегда сам по себе и себе на уме. Даже получив место в студенческом общежитии, оставил за собой квартиру в Великом. Дом одноэтажный, но каменный, с крышей непротекающей и с печью не дымящей, греющей хорошо и ровно. Может, потому, что супруга его Вера, невысокая толстушка-хохотушка, продолжала работать в местной школе и заочно училась в аспирантуре у Григория Григорьевича Мельниченко, помогая тому в составлении диалектического словаря Ярославской области. Не могу судить, каким ученым стала она, но знаю точно, что большинство её работ и рефератов писал для неё и перепечатывал на пишущей машинке Леша. Да, в училище КГБ простаков не брали!
Вера всех однокурсников Леши называла по-детски: Алька, Толька, Валька…
– Колька, – кричала, встречая меня на пороге, – ты чего приехал-то?
– Навестить старших по возрасту и званию.
– Значит, ужин готовим на троих.
– Можно и на четверых.
– А кто четвертый-то.
– Я – за двоих.
– Да ну тебя, – и убегала на кухню.
Не раздеваясь, вместе с Лешей отправлялся в магазин за водярой. Мог бы и сразу прихватить, тем более что останавливался рейсовый автобус на базарной площади с магазином в центре. Но я же гость, пусть счастливый хозяин и раскошеливается. Незыблемый студенческий принцип.
Потом ужинали втроем. Леша пил очень мало, стопку растягивал на весь вечер. Вера вообще не пила. Так что бутылка была моя. За это я веселил хозяев свежими слухами и анекдотами. Потом они купили кооперативную квартиру в Ярославле, на углу Володарского и проспекта Октября, которую сменили на полногабаритную трехкомнатную по проспекту Толбухина. Вера тогда, помнится, подыскала вариант, взяв под опеку глубокого одинокого старика, после смерти которого та квартира за ними и осталась.
Леша в свободное время оборудовал подвал со входом из кухни, как раз по площади квартиры, так что фактически их стало две. Сколько ни просил, подвал ни разу мне не показал. Что он там хранил? Валентин говорил про оставшиеся после старика древние иконы. Вполне допускаю.
На двоих Паршины родили одну дочь. Окончив наш факультет, затем ту же, что и мать, аспирантуру, выскочила замуж, родила сына и укатила в Ленинград, оставив родителям на память внука.
Внук дорос до таможенника. Вера к тому времени умерла, но внук с дедом не захотел жить (тесно показалось) и купил с помощью отца однокомнатную квартиру в доме напротив.
Последний раз, когда мы с Лешей виделись, жил он одиноко, тем не менее подрабатывал на моторном заводе трудом не интеллектуальным, но доходным. Каким, не поделился.
Кто у нас там еще за