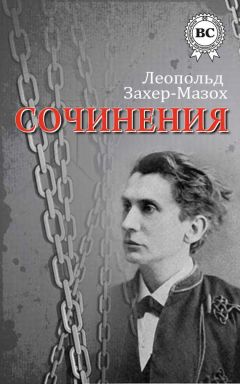Так не могло дольше продолжаться; мы все более и более запутывались в долгах, и безденежью не видно было конца. Деньги просто таяли в руках моего мужа. Он не только безрассудно бросал на ветер полученные деньги, но, благодаря кредиту, он точно так же поступал с теми, которые еще ожидал, и даже с теми, в получении которых он не был уверен.
Одно время я подумывала снова приняться писать, чтобы хоть что-нибудь заработать, но очень скоро отбросила эту мысль. У меня был муж, хозяйство и дети; все это были серьезные обязанности, которые поглощали меня, согревали мою душу и занимали мой ум. То малое количество денег, что я могла заработать, не восполнило бы ущерб в нашей семейной жизни, который явился бы вследствие отсутствия моих забот. К тому же легкость, с какой я бросила писать, указывала на отсутствие во мне настоящего таланта.
Когда первое приятное впечатление от прелестных нарядов немного стушевалось, я поговорила с Леопольдом о нашем положении.
Я старалась объяснить ему, что нам следовало в интересах наших детей привести в порядок дела, а не то мы не будем даже в состоянии прилично воспитать их. С другой стороны, это постоянное безденежье может вредно отразиться на его репутации писателя; он должен непременно расплатиться с долгами, и ему вовсе не трудно сделать это, потому что, в сущности, он зарабатывает достаточно денег, чтобы жить с комфортом. Не хватает только одного: порядка.
Он вполне согласился со мной и предложил мне с этих пор заведовать кассой, брать от него все деньги и выдавать ему ровно столько, чтобы выплачивать старые долги да изредка покупать мех для меня.
Мы пришли к соглашению. Он будет выплачивать свои долги, а я устрою так, чтобы на покупку мехов оставалась только самая незначительная сумма.
Он выразил мне свое полное удовольствие, что все гак устроилось, так как не любил заниматься денежными делами, а с другой стороны, он находил очаровательным зависеть всецело от меня.
Он непременно хотел заключить со мной письменный договор за его подписью, по которому я буду иметь право располагать всем его доходом. Я не могла удержаться от смеха, но он отнесся к этому совершенно серьезно и просил меня тотчас же составить контракт, чтобы чувствовать себя вполне в моей власти. Я сообразила, какие преимущества я могла извлечь из подобного договора, ввиду хозяйственной экономии, и заявила, что готова исполнить его желание. Я уселась за письменным столом, а он принес мне красивый лист министерской бумаги.
– Только тебе необходимо надеть мех, когда будешь писать, чтобы у меня было ощущение твоей власти надо мной!
Я надела мех и составила контракт.
Стоя возле меня, он с восторгом и страхом смотрел на меня. Когда я докончила бумагу, он подписал ее и сказал:
– Храни ее. Теперь ты – моя госпожа, а я – твой раб. Отныне я буду называть тебя только «госпожа». Приказывай, и я всегда буду повиноваться.
Для ознаменования новой эры я решила положить конец всякому сумасбродству. Я дала знать поставщикам, чтобы они не посылали к нам ничего, не заказанного мной. Первыми же полученными деньгами я уплатила все мелкие долги, спустя несколько месяцев избавилась от самых неотложных и даже отложила небольшую сумму на всякий случай.
* * *
Две критические статьи, присланные нам, заставили меня задуматься. Одна из них появилась в «Les Debats» и была подписана тогдашним литературным критиком этой газеты. Другая была напечатана в Германии, но я совершенно не помню ни названия газеты, ни имени критика.
Отзыв «Les Debats» был настолько лестный, что Леопольд просто не помнил себя от радости. Критик говорил, что в парижском литературном мире происходила небывалая вещь: молодой писатель, родом славянин, до сих пор совершенно неизвестный во Франции, успел в самое короткое время возбудить такой интерес и симпатию к себе своими рассказами, что его имя почти не сходит с языков, и во всех салонах, претендующих на литературность, то и дело слышится вопрос: «Читали ли вы «Дон-Жуана из Коломеи» Захер-Мазоха?»
Это было достаточно, чтобы мой муж чувствовал себя на седьмом небе.
Немецкая критическая статья была не такая лестная, но зато более глубокая и указывала на искреннее и теплое отношение к таланту Захер-Мазоха. Статья та заставила меня задуматься, потому что в ней было сказано то, что я сама думала давно, не смея выразить Леопольду: героини его рассказов стали слишком походить одна на другую; как интересны они ни были, это становилось утомительным в конце концов, и Захер-Мазох рисковал стать однообразным. Ему следовало отбросить этот тип женщины, вычеркнув ее из своей жизни, так или иначе освободившись от нее, чтобы она больше не повторялась в его произведениях.
Когда радость от статьи в «Les Debats» несколько утихла, я спросила его мнение о немецкой критике. Он успел только пробежать ее. Тогда он снова прочел ее и тоже задумался.
– Все, что этот критик говорит, правда, – сказал он наконец. – Но он ошибается в одном – в самом главном. Если б подобная женщина играла роль в моей жизни, ее не было бы в моих книгах. Она втирается туда, потому что мое воображение занято ею. Как только я хочу изобразить женский образ, она тотчас же является у меня на бумаге; я принужден описывать ее без конца помимо моей воли, и как только я принимаюсь за нее, мной овладевает какое-то опьянение: я не могу остановиться, не нарисовав ее во всей ее демонической красе… Я сам часто боюсь, что это может наскучить читателю, но как же быть?
– Однако в твоей жизни встречались же подобные женщины?
– Ты хочешь сказать, г-жа П.?
– Она и другие.
– Ах, все они хотели быть ею, но не были достаточно сильны.
– Это вполне естественно. Как можно ожидать встретить в действительности существо, во всех отношениях похожее на создание твоего воображения? Ты слишком многого требуешь. Ты не должен рисковать своей репутацией писателя. Немецкая критика предупреждает тебя в твоих же интересах; пойми это и не жди, чтобы подобный же упрек тебе сделали во Франции. Ты дорожишь мнением французов, ты представляешь себе свою будущность во Франции – подумай, какова твоя ставка; решись и отбрось свой «злой идеал» раз и навсегда.
Он серьезно посмотрел на меня.
– Ты права. Надо отречься от него. Ты во многом могла бы помочь мне.
– Каким образом?
– Ты должна носить меха и взяться за кнут.
– Но ведь я же ношу меха!
– Да, но ты не хочешь слышать о кнуте. Ставка – это вся наша будущность, и она касается тебя так же близко, как и меня. Если я приношу жертву, то и ты можешь сделать то же самое. Испытывать побои от моей жены для меня наслаждение. Бей меня, и я обещаю тебе всем, что есть для меня святого, даю тебе мое честное слово, что с этого дня в моих произведениях не будет больше жестокой женщины. Ты согласна?
Я больше не раздумывала. Если он сдержит слово, в чем я не сомневалась, все пойдет хорошо.
С этих пор не проходило дня, чтобы я не била моего мужа, доказав ему таким образом, что я выполняю наш договор. Вначале я испытывала необычайное отвращение, но мало-помалу я привыкла, хотя всегда исполняла это против воли и вынужденная необходимостью.
Видя, что я подчиняюсь его желаниям, он ухитрялся придать этому еще более мучительный характер. Он заказал по своему собственному указанию различные кнуты, между прочим плеть в шесть ремней, утыканных острыми гвоздями.
Но он сдержал свое слово, и с этих пор в его книгах не встречалось никаких мехов, жестокостей и кнутов.
* * *
В эту зиму Леопольд получил из Женевы письмо от одной молодой девушки, Катерины Штребингер, которая просила у него позволения перевести его рассказы. Она писала, что она дочь пастора в Морже, но сама живет в Женеве, где Рошфор указал ей на произведения Захер-Мазоха.
Она прочла в «Revue des deux Mondes» все, что перевела г-жа Бентзон, и предлагает переводить на тех же условиях и в тот же журнал благодаря своим отношениям с Рошфором. На тех же условиях, как и г-жа Бентзон! Нечего сказать, выгодно!
Леопольд принял предложение и поставил условием получать половину гонорара. Одновременно с письмом он послал ей рассказ. Вскоре после этого рассказ действительно появился в «Revue des deux Mondes», а половина гонорара, оказалось, превышала ту сумму, которую он получал в Германии или Австрии.
* * *
Зимой в Брюк вернулся Штауденгейм. Мы снова принялись за игру в шахматы по вечерам в то время, когда мой муж писал. У моего мужа, между прочим, была мания «создавать» для меня туалеты, приводившие меня в отчаяние, которое я ни в коем случае не показывала ему. В эту зиму, например, я должна была нарядиться в зеленую юбку цвета шпината, в красную кофту с черными бархатными отворотами, как у почтальона, и ко всему этому надеть черную бархатную драгунскую фуражку, отделанную горностаем.
В первый раз, когда я вышла в этом смешном наряде, Штауденгейм, очевидно, видел меня из окна, гак как вечером спросил: