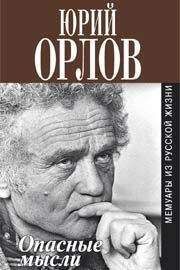В особом отделе дивизии вели беседу три одинаковолицых офицера.
«Вы кандидат партии?»
«Да».
«Как патриот и молодой коммунист Вы обязаны помочь нам».
«Да. Понятно. А — что — помочь?»
«Да нет, это, собственно, ваш обычный долг. Сами знаете: империалистические разведки действуют все более нагло. Не секрет, что в нашу армию засылают шпионов. И вербуют шпионов. Из морально разложившихся, политически неустойчивых личностей».
Они посмотрели на меня испытующе, не разложился ли я морально-политически.
«Из морально разложившихся, политически неустойчивых. Такие могут оказаться и в вашем полку. У вас офицеры, вот хоть за вашим столом в столовой, ведут разговоры о делах службы очень свободно. Нечаянно проговорятся о вещах секретных. В армии все секретно. Мы должны вовремя пресекать. Если надо — пресекать решительно. Понимаете?»
«Понимаю».
«И?»
«Да. Понимаю. А что — и?»
Я лихорадочно соображал. Знают или не знают? Почему говорят о нашем столе? Это же как раз наша компания. Или только подозревают? Надо продолжать разговор. Может быть пойму что-нибудь. Надо понять.
«Да… И — что?» — спросил я еще раз.
«Что? Просто записывайте все, что услышите, и на следующий день передавайте вашему начальнику спецотдела. Только не в полку садитесь писать! Дома, чтобы никто не видел».
«Да… А что… что записывать?»
«Все! Все. Мы сами разберемся».
«Но… иногда… говорят о бабах…»
«О бабах не пишите. Впрочем, смотря какая баба. Ха-ха. Запоминайте имена».
«Имена? Ага. И?»
«Записывайте и передавайте в спецотдел».
«Понятно. Но… или вот о погоде…»
«Младший лейтенант, что это вы? Вы же грамотный офицер! Соображайте сами. Да — выберите фамилию».
«Фамилию?»
«Фамилию. Своей фамилией не подписывайтесь».
«Фамилию. Какую?»
«Это неважно. Любую, лишь бы не Вашу».
«Хорошо. Нотов». (Это была фамилия агента царской охранки из одного детектива.)
«Нотов. Прекрасно. Подпишитесь».
«Подписать?? Что… подписать?»
«Пока ничего. Мы с вами еще встретимся. Сейчас вы пока обязуетесь не разглашать содержание и сам факт нашей с вами беседы».
Я посмотрел. Да, там было только о неразглашении. Я подписал.
Всю ночь я обдумывал «беседу». Знают? Нет? И вывел, что не знают ничего, кроме того, что мы друзья и любим поболтать. Иначе был бы не тот тон «беседы». Они бы не сказали «соображайте сами». Они бы припугнули, что знают, мол, кое-что, чтобы прижать к стене и заставить подписать бумагу о сотрудничестве сразу же. Нет, они постарались бы не дать мне никакого ходу. Все ясно. Говорить с ними больше не о чем.
Утром я сказал полковому особисту: «Знаете, я не смогу доносить на товарищей, характер не позволяет».
«Как? А вы понимаете, что это вам даром не пройдет?»
Я пожал плечами. Все спрашивают, понимаю ли я. Я понимаю. Через час он повел меня к офицеру из особого отдела округа.
Это был довольно старообразной наружности молодой человек. Разговор шел один на один.
«Я не могу следить за товарищами», — сказал я. Я хотел сказать «шпионить», но вовремя спохватился: шпионы не у нас, у империалистов. У нас разведчики и патриоты.
«Это невозможно, — продолжал я. — Нехорошо. Неприятно».
«Я это понимаю, — возразил он. — И мне это неприятно. Но вы же понимаете, что без контроля нельзя? Иностранный шпионаж. Секреты».
«Я понимаю. Но ведь вы следите не только за этим. Можете арестовать просто за…» Он быстро взглянул на меня, я осекся. Идиот, что я говорю!
«А за чем еще мы следим? За что арестовываем?»
«Ну, не только же за секреты. У вас разная работа».
«Какая работа?»
Я молчал. Зачем я повернул направление разговора? Как начинающий велосипедист сворачивает на фонарный столб.
«Не бойтесь, — сказал он. — Вы не бойтесь. Мы одни. Скажите прямо, что вы думаете о нас?» Я все молчал. — «Что вы думаете о нас? Почему вы думаете, что у нас как в гестапо?»
Я вздрогнул. Он сравнил их с гестапо! Я — никогда еще не думал о таком сравнении.
«Гестапо?»
Теперь он замолчал. Внимательными серыми глазами уставился на меня в упор. Злобы не было в этом взгляде. Далеконько мы зашли в нашем разговоре. Далеко.
«Н-ну, — сказал он, наконец, — идите».
Никаких немедленных последствий разговора не возникло. Полк переформировали, и я этих чекистов больше не видел, хотя долго еще ожидал обещанных неприятностей. Я планировал уйти из армии, сдать экзамены в школу и поступить в университет; теперь обдумывал альтернативы. Если не примут в университет, рассуждал я, если не дадут заниматься наукой, то разыщу подпольные кружки, о которых сказал сержант.
Это был не тот, что говорил о Сталине, другой сержант. Что-то показалось во мне любопытным для него, он подошел, и мы разговорились.
«Вы хотите пойти в науку?» — спросил он. Я подтвердил. — «Я до войны был научным сотрудником. А чем вы собираетесь заниматься?»
«Еще месяц назад хотел быть философом». (Сержант усмехнулся.) — «Читал Гегеля, Бэкона. А потом понял, что как устроена природа философия не объяснит. Поэтому решил заняться физикой, решаю вот задачки. Философы только дают различные идеи. Но это еще не наука».
«А марксизм?»
«Марксизм — это тоже не наука».
«Молодец», — сказал он. Мы пошли вдоль полкового городка.
«Вернусь в тот же институт, где работал до войны, — говорил он. — И что я знаю, — что в академии действуют подпольные теоретические кружки».
Кружки! Мне не надо было объяснять, какие кружки. Политические. Я тоже войду в кружок. Мы разработаем программу переустройства общества! Мы… — я раскричался. Сержант смотрел на меня задумчиво. Я остановился. Осмотрелся. Мы проходили как раз под открытыми окнами спецотдела.
Больше он ко мне не подходил.
Я подал на увольнение из армии для продолжения образования. В ноябре 1946 года меня демобилизовали, и я отправился домой.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ТУМАН ПОД ПОТОЛКОМ
Мы потеряли свою келью.
Нашу коммунальную квартиру занял завод, и мать, вернувшуюся из эвакуации, поселили в пристроечке, которая прежде была чуланом. Когда я вошел, то по правую руку увидел кровать, занимавшую в длину всю комнату от двери до окна. В конце прохода, шириной сантиметров тридцать, между кроватью и левой стеной, стояла под окном тумбочка. Вот и все, что там было. Спать, подумал я, придется нам с матерью на одной кровати, валетом. Было тепло; но стены и потолок, высотою метра полтора, были покрыты каплями влаги. Можно писать на них романы пальцем, думал я. В тумане под потолком светилась электрическая лампочка.
Наши новости мы знали из писем друг другу, но хотелось все снова обговорить. Пришло подтверждение, что мой отчим погиб на фронте в 1942 году. Дядя Петя, как только вернулся из сибирской эвакуации, слег и через два месяца скончался от туберкулеза. Его жену Лизу с сыном выселили из их кельи еще раньше. Но она устроилась неплохо, работала в каком-то общежитии и имела от общежития комнату. О бабушке ничего не было слышно. У самой же матери было плохо с сердцем. И зубы выпали все до единого еще в последний год войны. «Куснешь хлеб, — вспомнила она, — а в хлебе зуб застрял. Два зуба даже проглотила.» Она улыбнулась беззубым ртом. — «Скоро протез сделают». Матери было тридцать семь.
«Я теперь в Бога верю, — сказала она, когда мы улеглись голова в ноги. — В церковь хожу. Только вот молитвы забыла. Девочкой помнила, да когда это было; и было ли?…Может та девочка умерла, а ее душа в меня переселилась? Как ты думаешь, это возможно?…Помню, отец брал меня на рыбную ловлю на реку Чусовую. Все берега в малине. Хариусов ловили, ах, какая вкусная рыба!..А мать — я не рассказывала тебе? — ходила в Персию за персидскими тканями. Доплывет с отцом до Каспия, он ведь механиком был на пароходе, а дальше без него, на лодке, ночью. У тебя, значит, одна бабка знахарка была, а другая контрабандистка». Она вдруг рассмеялась прежним своим молодым смехом.
«Обмотается персидскими тканями и так под платьем довезет товар до дому».
«…Ты не спишь? Знаешь, жилье можно было бы получить. Я разговаривала с Васей. Твой двоюродный брат Вася, не забыл? — тети Зины сын, — после демобилизации устроился в милицию. Он о тебе уже закидывал удочку — возьмут. Туда без блата попасть трудно, они больше любят иногородних. Комнату сразу дают, и на улучшение жилищных условий очередь всего четыре года.»
«Мам, в милицию я не могу. Мне надо идти в университет».
«Дурачок, оттуда легче поступить куда хочешь. Как дадут квартиру, так сразу и уйдешь. Обещают, что у тебя будет полно времени на заочное учение».
«Мне надо гораздо больше времени. Вечерний институт — это не образование. Я уж потерял больше пяти лет. Да и в милиции работать противно».
«Да ты не будешь милиционером на улице. Будешь сидеть за столом».