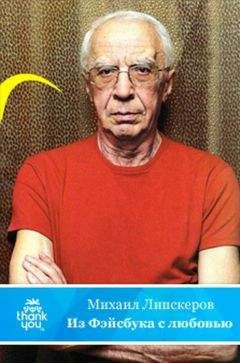Все это я пишу, если кто еще не понял, про Гоголя, про Николай Васильича. И к этому мне добавить особенно нечего.
А что наш непутевый Иван Моисеевич был однаж ды избит и ограблен, что с него было снято новое зимнее пальто, что он шел до дому пару километров по морозу в одном пиджачке, что он на месяц-полтора слег с воспалением легких и что это обстоятельство несказанно повеселило и обрадовало наш чудесный 9-й «А», я вовсе не выдумываю. Так и было. По крайней мере могло бы быть.
«Ну? — бодро и, главное, предсказуемо спросил меня коллега по редакции, лишь только я вошел туда с ритуальным дьютифришным „Абсолютом“ в руках. — Сейчас небось засядете за путевые заметки?»
И мы с ним тотчас же предались излюбленному занятию — импровизированию советского заграничного очерка, начинающегося, как правило, со слов «Мельбурн (Осло, Гамбург, Нью-Йорк, Карачи) встретил меня проливным дождем». Далее обязательно следовали встречи с «простыми людьми», жадно расспрашивавшими «меня» о жизни в СССР и положении рабочих. Узнав, что с положением рабочих в СССР все о’кей, простые люди горестно вздыхали и сообщали автору, что у них там с положением рабочих даже и близко не о’кей. О чем и просили «меня» рассказать советскому читателю, ни в коем случае не называя их настоящих имен. Автор же, верный данному слову, честно, ничего не перевирая, кроме имен отважных информантов, передавал советскому читателю нерадостные вести о жизни простого люда. Советский читатель, разумеется, верил каждому правдивому слову писателя и его стройной картине мира, где, например, пожилой докер, отогнув ворот спецовки, показывал автору потайной значок с изображением Ленина, отчего у автора наворачивались на глаза непрошеные слезы. Фальшивый блеск витрин там неизбежно служил толстым слоем грима, под которым скрывалась дряблая кожа пресловутой западной демократии. Ну и так далее.
(Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, мой неугомонный коллега ехидно спрашивает, не про «гостеприимную ли шведскую землю» я строчу свой «репортаж». Про нее, коллега, про нее самую. Не мешайте работать.)
В этот раз я действительно вернулся из города Стокгольма, который встретил меня никаким не дождем, а ярким солнцем и ужасно холодным ветром. Там было очень холодно и очень красиво, тем более что окно моего гостиничного номера выходило прямо на залив с качающимися от шквального ветра яхтами.
С «простым людом» пообщаться по душам не пришлось. Попадался в этот раз, как назло, все больше не самый простой люд в лице университетских славистов — как хорошо знакомых, так и не очень.
На второй день имел место вечер с моим участием в клубе, где кучкуются местные гуманитарные люди. Все это мероприятие называлось «Русский вечер». Кроме меня была шведская поэтесса, чье участие мотивировалось, по-видимому, тем, что она сочинила поэму про свою давнюю поездку в Ленинград, где, судя по ее устным свидетельствам, она общалась как раз с пресловутым простым людом. Причем едва ли не вся мужская составляющая этого люда дружно, не сговариваясь, проявляла к ней нескрываемый марьяжный интерес. Будучи девушкой по отношению к себе вполне трезвой, даром что поэтесса, она из этого не стала делать слишком лестных для себя выводов, а просто сообразила, что всему этому люду ужас как хотелось умотать в Швецию, где, как было сказано, блеск витрин неизбежно служил толстым слоем грима.
Еще в «Русском вечере» участвовал ансамбль с двумя певцами: один был натуральный цыган с соответствующим репертуаром, другая — рослая красавица, певшая песенки на идиш. Я этого прекрасного языка не знаю, но, услышав слова «Бессарабия» и «эссен мамалыге», я, кажется, что-то понял.
Среди музыкантов выделялся скрипач — невысокий чернокожий парень в смешной шляпе с узкими полями. Изумил меня не столько его облик, сколько то, что он заговорил со мной на очень неплохом русском. «Вы откуда?» — спросил я его. «С Кубы, — ответил он. — А русский я знаю потому, что закончил Киевскую консерваторию. Потом еще и в Одессе жил». И, радостно засмеявшись, он добавил: «Я кубинский хохол». Как этот кубинский хохол попал в Швецию, я спросить постеснялся.
Такой вот был «Русский вечер». Хотя почему бы и нет. Все-таки «всемирная отзывчивость» — не пустые же слова.
Я, кажется, знаю, почему все эти четыре дня я столь пристально приглядывался и прислушивался к разным забавным мелочам, которые в другое время могли бы и пройти мимо моего внимания. Я думаю, что так выразилась психическая реакция на страшные и мучительные известия из Японии, наваливавшиеся на меня то с экрана телевизора, то со страниц газет. Непонятный язык усиливал впечатление нереального кошмара и чувство бессильного сострадания.
В другое время я мог бы и не обратить внимания на забавный речевой казус, случившийся в разговоре со старинным моим приятелем, филологом-русистом из Гетеборга. Когда я спросил, как поживает его семья, он вдруг меланхолически, как мне показалось, сказал: «На сегодняшний день в Швеции четыре идиота». Не успел я восхититься столь высоким интеллектуальным уровнем шведского населения, не успел я с доброй завистью сказать ему, что всего четыре идиота на всю, даже и не слишком многонаселенную, страну — это очень высокий результат, как он продолжил: «А теперь моя жена…» Тут я впал в легкую панику, лихорадочно пытаясь смоделировать свою дальнейшую реакцию. Но паника была недолгой, потому что он снова продолжил: «А теперь моя жена получила заказ от одного очень уважаемого издательства на новый перевод».
Фу ты, черт, слава богу! Слово «идиот» мгновенно оделось в крепкие кавычки, как реки одеваются в гранитные берега, и незыблемая картина мира, хоть и утратила на миг свои привычные очертания, все же обрела их вновь.
Да и как я мог не догадаться сразу! Все же понятно: его жена — переводчица, она уже перевела на шведский несколько томов Платонова. А теперь вот получила заказ на новый перевод «Идиота». А до этого их было четыре. Кто тут идиот, спрашивается? Не надо мне подсказывать, я сам знаю.
Я поведал об этом казусе своему собеседнику, и он от души повеселился, добавив ради восстановления пошатнувшейся было истины, что идиотов в Швеции все-таки существенно больше, чем четыре. Некоторое время мы померялись масштабами наших национальных идиотизмов и пришли к неизбежному, хотя и печальному, консенсусу: в мире, к сожалению, идиотов больше, чем нормальных людей. После чего отправились на рыбный рынок есть какую-то особенную жареную сельдь.
…А мой редакционный коллега между тем все не унимается. Вот и опять вкрадчиво спрашивает, не собираюсь ли я назвать свой текст «Из стокгольмских тетрадей». А что, мол, скромно и в то же время оригинально. Собираюсь, коллега, конечно же собираюсь, какие сомнения! А если вы такой умный, то придумайте название сами.
Люди друг друга не понимают. Не всегда, но очень часто. И хорошо еще, если это непонимание имеет лишь невинные, анекдотические последствия. Вроде того, что рассказал мне как-то старинный мой знакомый, в студенческие годы подрабатывавший на Мосфильме в качестве статиста.
Однажды, рассказывал этот знакомый, в компании других статистов он привычно предавался процессу коллективного согрева посредством недорогого портвейна в одной из студийных подсобок. В какой-то момент он услышал, как висящий под потолком хриплый репродуктор вдруг громко и довольно торжественно провозгласил емкий и выразительный, хотя и несколько экстравагантный тост. Это было довольно неожиданно, но в целом скорее уместно. Впрочем, очень быстро до него дошло, что это был вовсе не тост. И вообще это было совсем не то, что ему послышалось вначале. Это была всего лишь рабочая команда «Запись дубля!», то есть призыв ко всей массовке быстренько нахлобучить на себя казенные ушанки, фуражки и шапки-пирожки и стремглав мчаться на съемочную площадку с целью правдоподобной имитации народного энтузиазма по поводу зажигательного выступления товарища В. И. Ленина на собрании профсоюза работников московских живодерен.
Это, разумеется, всего лишь анекдот из жизни. Но факт остается фактом: люди друг друга не понимают.
Проблема взаимного непонимания, притом что вроде бы все говорят на одном и том же национальном языке, — одна, по-моему, из ключевых проблем нашей общественной жизни.
Было бы неправильно утверждать, что во все прочие времена в стране и в обществе царило полное благостное взаимопонимание. Нет, конечно. Языковое отчуждение между властью и обществом, а также между отдельными сегментами общества существовало всегда. И разные социальные группы отгораживались друг от друга вполне осознанно, ибо в тотальном государстве это было едва ли не единственным способом хоть как-то оградить пространство своей суверенности. Так, в сущности, проявлял себя врожденный инстинкт самосохранения.