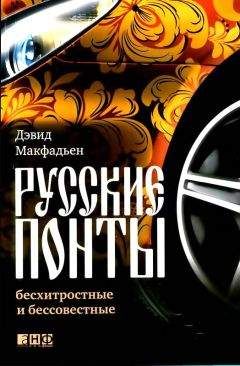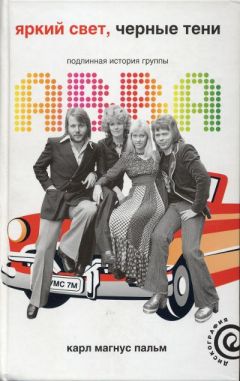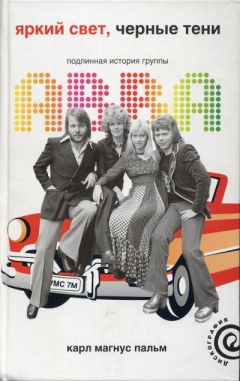Подтверждение национального комплекса любви/ненависти к этим величинам можно найти в их названиях. «Простор», например, веет отрадой и везением. Всем хочется туда: «Это когда легко дышится, ничто не давит, не стесняет, когда можно пойти куда угодно, когда есть где разгуляться». Со словом «ширь» связаны похожие чувства, но если у «простора» оттенок «созерцательно-мечтательный», то ширь вызывает ассоциации чего-то эпического.[105]
Любое желание идти дальше знакомых или вызывающих клаустрофобию ограждений создает обратный эффект. Когда речь идет о некоем излишке «простора», человек, оказавшийся в таких местах, либо вдохновлен, либо взволнован. В любом случае он будет искать способ проявить свои ощущения в экстриме: он стремится к «загулу» или к «запою», которые будут соответствовать охватывающему его чувству пустоты. Люди покидают зону безопасности и уходят в «загул и запой» или «в себя»; оба состояния воплощают движение от центра.
И тогда становится страшно. В такой страшной пустоте или темноте человек ищет хоть какой-то стабильности и поэтому против всякой логики продвигается еще дальше. Паника чередуется с моментами (не очень убедительной) агрессии. Вот понт в пейзаже. Нам надо разбираться в этих чередующихся эмоциях, в неконтролируемых ситуациях или временах, чтобы с ними справиться. Что с нами происходит, когда мы оказываемся за переделами своего спокойного бастиона?
Что делает пейзаж с твоими мозгами: пример из кино
Недавний фильм Ивана Вырыпаева «Эйфория» служит хорошим примером этого синдрома «последнего залпа» (который никогда не доводит до стабильного состояния пьянства или неменяющегося плато, где тебе будет лучше). В пустоте истинного потенциала — везде! — опор и остановок не будет. «Эйфория» изображает это отсутствие всего знакомого. В начале картины бессердечные дети привязывают умственно отсталого мужика к мотоциклу. Сначала он в ужасе, потом на его лице появляется выражение тупой эйфории, он дает газ и уезжает со скоростью звука. Приближается развилка дороги: теперь куда? Наш богатырь «вдохновлен» избытком просторов и несется в ту пустыню, которая только что страшила его. Ощущает ли он панику или радость, когда может ехать куда угодно, мы не знаем. Он тоже, скорее всего.
Этот короткий фильм, с его безмерной степью, бесконечным низким горизонтом и огромным небом заслуживает переименования в «Агорафобия». Земля вытесняется безмерным голубым небом; шатающейся ручной съемкой режиссер подчеркивает нетвердость, водянистость почвы. Машины начинает заносить, как на мокрой дороге, низкие съемки с самолета постоянно не могут уловить вечно ускользающие от внимания объекты. Очень часто мы видим происходящее так, словно камера привязана (как вышеупомянутый дуралей) к качающемуся предмету: к вертолету, лодке или ржавой машине.
У главного помещения в этом фильме также нет ни дверей, ни окон: все, напоминающее о чем-либо непроницаемом, отсутствует. Бастионов здесь нет. Одна из героинь сидит на обочине, размахивая нижним бельем, явно после интимной сцены. Все тут нараспашку, ничто не заперто: вот воплощение перехода от легкой эйфории… к неуправляемому экстазу. В хаос. Дома как такового уже нет, как нет и центра. Эти центробежные силы врываются в жизнь двух любовников, которые упорно хотят быть вместе, даже зная, что их разыскивает муж героини с ружьем. Он уже убил свою собаку. Любовники неразумно, даже фатально, может быть, и экстатически, отдаются какой-то вездесущей силе, представленной ландшафтом. Там нет дорог, только направления; любовники отдаются экстремальному, «революционному» состоянию, где смягчающих обстоятельств нет. Потому что ничего вокруг нет.
Их тела разрываются или растворяются в сфере, у которой нет центра. Окружающий мир так же быстро присваивает части и других тел: собака откусывает кончик пальца у дочери свирепого мужа. Именно поэтому он и убивает животное. Позже в фильме он находит и человеческую добычу. Любовники, даже не пытаясь спастись от давно уже очевидной угрозы, неторопливо плывут по течению реки в дырявой лодке. Так усиливается взаимопроникновение между внутренним и внешним, между закрытым пространством и экстазом; убираются все потемкинские фасады, так сказать. Это особенно подчеркивается одной вечерней сценой, где через темно-синие фильтры снимается полное слияние актеров с природой. Различить их невозможно. Они в пейзаже, как и он в них: запертых дверей нет. Они сделали один шаг дальше мужика на мотоцикле, выбирающего в панике между двумя вариантами. Вдохновлены ли они ландшафтом или просто не защищены, мы не знаем, но, по словам героини сериала «Татьянин день», они «ради любви готовы идти на всё».
Режиссер изображает это вездесущее «всё» достаточно убедительно, но любое описание безбрежности должно включать в себя какой-то неизъяснимый излишек. Как мы видели раньше, если можно назвать или описать безграничность до самого конца, то она уже и не безгранична! Этот излишек «там» и «вокруг да около» задолго до того, как герои приведут доказательства его невыразимости. От главных действующих лиц мы слышим одни лишь ломаные фразы. Целых предложений уже нет: «Короче… типа… че это он тут?…ты че, ваааще?…ну вот, значит…» и т. п. Спотыкающийся диалог обрамлен другими звуками жителей этого безымянного места: стрекоз, цикад, козлов, собак, пчел, трясогузок и жаворонков. Даже сценарий начинается с описания Дона с высоты птичьего полета, если не с божьей высоты. Вот просторы России — и вдохновляющие, и пугающие понтярщика:
С высоты птичьего полета извивается широкой лентой мутная река Дон; желто-красная выгоревшая на солнце степь дрожит мелкой рябью на ветру; белый ковыль, как белая вода, зеленые бугры, и одинокое дерево причудливой формы. Кажется, что огромное дикое божество всем своим телом легло на землю. Дон — больше чем река. Дон — это степи, маленькие хутора, одиноко растущие деревья. Дон — это красные, желтые, белые пятна и еще множество причудливых красок. Дон — это вольный, разгульный, свирепый, страстный, непокорный и безумно красивый бог.
Руки бога — донское звездное небо, ноги его — потрескавшаяся от жары земля.[106]
В таком антураже было бы трудно ожидать любой гармонии или стабильности, но тем не менее нас страшит жажда любовников принять вызов судьбоносной, невыразимой силы. Зачем? Где смысл? Он в том, что своей смертью они расстаются с земной жизнью и обретают совершенство. Выходит, в их поражении есть и торжество: им достается «возвышенная добродетель».[107] Такое самопожертвование становится странным объектом желания, повторяющимся настойчивым требованием судьбы, которая благословляет нас именно посредством нашего поражения. Мы должны безоговорочно и по-мазохистски даже подчиняться ради самоутверждения. Провал — это шаг в сторону полноты существования. Бесконечные поля бесконечной страны предлагают и обещают такое поражение: оно кроется в полной преданности чему-то — в данном случае преданности любви. Любить надо так, чтобы был реализован полный потенциал, т. е. смягчающих обстоятельств не было! Любить надо так, чтобы на деле, а не на словах превзойти любые понтовые утверждения.
Посмотрим на развязку фильма. Герои берут дырявую лодку, они сознательно вызывают гнев человека, только что убившего собаку! И наконец, они неподвижно лежат в лодке, делая себя очень легкой добычей. Разъяренный супруг дарует отношениям любовников их смысл или «разумное» основание. Так действует один из элементов греческой трагедии — «узнавание» (anagnorisis). Это узнавание вездесущей судьбы. Отдаваясь ей, ты поступаешь по воле богов, и поражение превращается в победу.
В комедийном фильме 2002 года «Секретарша» героиня (Мэгги Гилленхаал) сидит на приеме у психоаналитика, убежденного в том, что ей нравится причинять себе физическую боль. Когда она испытывает моральные терзания, она достает бритву и делает себе порезы на ногах. Таким образом, она хоть что-то чувствует и на время проникается «счастьем». Психоаналитик, отчаянно стараясь найти в этой трагедии сколько-нибудь утешительное толкование, неловко намекает на святое самопожертвование: «Знаете что? У всего этого есть целая история в католической церкви. Вы являетесь частью великой традиции!» Вот с чем мы имеем дело на русских просторах и посреди безбрежности. Так считают понтующиеся. Не говорят это, а просто ощущают за своими многословными байками. Физически ощущают — вокруг себя, за пределами уютного бастиона вранья. Везде.
Ощущение земли и ее вызов понтярщику
Эффект и «аффект» ландшафта — эмоциональное влияние на нас русской шири — очень хорошо определяются в работе русского мыслителя Валерия Подороги: «Так, широта плоских равнин, низин и возвышенностей обретает устойчивый психомоторный эквивалент, аффект широты, и в нем как уже моральной форме располагаются определения русского характера. Это открытость, доброта, самопожертвование, удаль, склонность к крайностям и т. п.»[108] Выводы Подороги прекрасно совмещаются с нашими аргументами, особенно с таким ключевым понятием, определяющим суть или результат этого аффекта, как «центробежность».[109] Чтобы любить по полной, надо покинуть дом. Надо идти туда, откуда лохи.