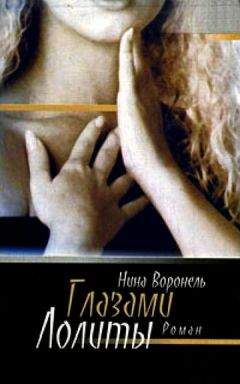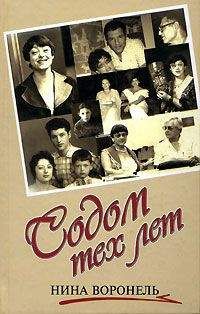Из моих знакомых он есть только у Миши Хейфеца, который – обидно признаться! – нашел его недавно в подъезде, когда ивритоязычные наследники какого-то умершего старика из «наших» выволокли в мусорку все его ненужные им книги, а эту, слишком уж красивую, пожалели и стыдливо прислонили к батарее.
История о том, как я осталась без авторского экземпляра, очень уж замысловатая, чтобы изложить ее в одном абзаце, но я попробую рассказать ее так кратко, как смогу.
С Шемякиным я по сути знакома не была, разве что, проездом мелькая в Париже, встречалась с ним не в притык на каких-нибудь унылых эмигрантских тусовках. Первый раз я увидела этого замечательного художника во всей красе во время его собственного вернисажа, помпезно проходившего в какой-то престижной галлерее на набережной Сены.
Народ все прибывал, и попадались даже такие чудаки, которые, пренебрегая тусовочным общением, начинали бродить из комнаты в комнату, разглядывая шемякинские картины. Три небольших зала, образующих выставочное простанство, были переполнены. Там были все - кто из осколков первой эммиграции, кто из огрызков второй, но в основном - из ностальгирующей массы «наших», только-только вырвавшихся из советского плена и не вполне уверенных, там ли они приземлились, да и приземлились ли вообще.
Это подвешенное состояние вовсе не мешало им группироваться вокруг стола с бокалами легкого вина, не способного напоить жаждущих, и с наколотой на зубочистки коктейльной закусью, не способной насытить голодных. В окрестности стола царил сам Миша Шемякин, вызывающе наряженный в маскарадный костюм а-ля-Рюс – кожаные брюки в обтяжку, заправленные в высокие кожаные сапоги, поверх брюк фольклорно расшитая кожаная безрукавка, длинные темные волосы схвачены надо лбом широкой кожаной лентой, как у русского мастерового с картин передвижников. С тех пор я не видела его лет двадцать пять и не знаю, как он выглядит сейчас, но тогда он был так строен, молод и хорош собой, что никакой кожаный китч не мог его испортить.
Однако Шемякин царил бы на своем вернисаже не только в окрестности стола, а и в прилегающем пространстве, будь толпа, заполнившая галлерею, более однородной. Но, к сожалению, она была разобщена и раздвоена точно и безжалостно, подобно тому, как набриолиненные темные волосы виновника торжества были разделены прямым, под линейку, пробором.
Стол с вином и закусью был водружен в центральном зале, куда с улицы втекал поток посетителей прежде, чем раздвоиться. Выпив по бокалу вина и проглотив пару маслин, гости начинали растекаться в смежные залы – сторонники Максимова направо, сторонники Синявского налево. И никаких компромиссов.
Одна только бесхозная девушка Ариэла, особа особого назначения, беспечно порхала из зала в зал, перенося на чуть траченых временем крылышках пыльцу сплетен и пересудов. Положение и назначение девушки Ариэлы в эмигрантском парижском мирке было то ли слишком понятным, то ли совершенно непостижимым. Мнения об этом раздваивались так же, как раздваивалась под кожаной лентой мастерового псевдо-русская прическа Шемякина.
Ариэла была подружкой поэта Романа Сефа, о котором ползали разные слухи, и который, в свою очередь был дружком печально известного Виктора Луи, слухи о котором давно уже перестали ползать и закаменели в твердой уверенности. Мы знавали легкомысленную Ариэлу еще по советской жизни. Это она, ловко выкрутившись из-под локтя восходящего к славе художника-концептуалиста Ильи Кабакова, познакомила нас в Пицунде с таинственным соглядатаем Осей Чураковым, и, убедившись в успехе предприятия, грациозно удалилась завязывать узелками новые нити.
Впрочем, эмигрантская братия Парижа не принимала порхания девушки Ариэлы слишком близко к сердцу, и праздник Шемякина протекал нормально и даже весело.
Мы, естественно, пришли вместе с Синявскими – война против «Континента» была тогда в самом разгаре, и Марья зорко следила за каждым потенциальным бойцом. Мы с Сашей, зарекомендовав себя бойцами не вполне надежными, нуждались в особом надзоре, и потому по приезде в Париж вынуждены были всегда останавливаться у Синявских в отдаленном пригороде Фонтанэ-о-Роз, чтоб у нас даже и поползновения не было выскользнуть из цепкой Марьиной хватки и гулять по своему произволу. «Куда вы собрались?» - спрашивала обычно она, как строгая классная наставница, когда мы, крадучись, пробирались к выходу. И не дожидаясь ответа, добавляла: «Подождите, я поеду с вами».
Однажды я, оказавшись в Париже без Саши, посмела ослушаться и поселилась в отеле, однако назавтра Марья приехала за мной на такси и, не слушая моих робких возражений, увезла к себе - под предлогом, что у нее есть для меня срочная работа. Работа у нее и вправду была, но ее вовсе не обязательно было выполнять у Марьи на глазах.
И в этот приезд мы, как обычно, жили у них, и отправились на вернисаж Шемякина вместе, предвкушая приятный вечер. Вечер поначалу и впрямь обещал быть приятным – в залах выставки мы то и дело встречали разных бывших московских знакомых, с которыми до сих пор не случилось повидаться в новой жизни. Кроме того, мне привелосьл услышать от Шемякина пару любезных слов о моей пьесе, вошедшей в его подготовленный к печати сборник «Аполлон», а это всегда греет сердце автора.
И вдруг в самый разгар этой благодати в галерее появился некогда ленинградский, а ныне парижский писатель Володя Марамзин. Увидев нас с Сашей, он бросился к нам здороваться и целоваться, - мне сейчас кажется, что это была наша первая встреча после его выезда из СССР. Мы любили его прозу, ценили его виртуозное владение словом, и нас связывала с ним старая дружба, слегка, правда, омраченная его неоднозначным (а может, слишком однозначным) поведением в наши последние московские месяцы.
Однако, хоть Мапамзин нас не раз подводил, мы склонны были его прощать, понимая, как нелегко ему приходилось – ведь он маялся тогда под следствием по делу о подготовке к изданию книги стихов Иосифа Бродского, которое власти пытались раздуть в серьезное политическое событие.
Не стану вдаваться сейчас в детали этого странного дела, лично для нас с Сашей важного тем, что оно было единственной привязкой, дававшей КГБ предлог преследовать нас и терзать обысками и арестами, хоть мы в нем никак не были замешаны. Но вряд ли их навел на нас Марамзин, - скорее, это они вывели его на нас. Мы решили об этом не думать – ведь нас в конце концов выпустили, а само дело обернулось пшиком, - всех подсудимых и подследственных оправдали и выпуситили из СССР, присудив срок одному только Мише Хейфецу, наименее в издании сборника замешанному, зато самому честному и бескомпромиссному изо всей подозрительной компании.
Для новых парижан все это выглядело таким же мало-существенным, как и броуновское движение бесхозной девушки Ариэлы, - не все ли равно, кто кого подвел в той старой жизни, когда мы все уже здесь, в Зазеркалье, где у нас совсем другие проблемы?
Здесь куда важнее был, повидимому, еще плохо усвоенный нами факт недавней ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, где роль первого играл Синявский, а роль второго – Марамзин. Хоть истинная причина ссоры и по сей день осталась тайной, но все знали, что произошла она на кухне у Синявских, где было сказано много резких слов и даже совершена попытка рукоприкладства. Слова, вроде бы произнес Андрей, а руку на него поднял Марамзин. Правда, поднявши, он ее все же куда следует не опустил, а так и ушел, позорно изгнанный с поднятой рукой.
Ненависть Марьи к Марамзину была так велика, что приводила порой к курьезам. Так, говорят, поэт Михаил Генделев позвонил однажды Синявским и, сообщив, что он в Париже, попросился в гости. Марья очень приветливо пригласила его приехать немедленно и хотела объяснить, как до них добраться. Все было бы хорошо, если бы Генделев на ее вопрос, где он находится сейчас, не ответил: «У Марамзина». После чего разговор немедленно прервался – Марья бросила трубку, и визит поэта Генделева к Синявским так и не состоялся.
Чего же можно было ожидать, когда этот самый непрощенный Марамзин – руку он, правда, к тому времени уже опустил,- сходу полез целоваться с нами на глазах всего честного общества, а мы, суки, нет, чтобы его оттолкнуть – мы, и глазом не моргнув, стали ответно с ним целоваться и выкрикивать вслух всякие нежности!
При виде этой безобразной картины Марья вскрикнула, как раненая птица – вряд ли она прореагировала бы столь же болезненно, если бы Синявский у нее на глазах стал целоваться с девушкой Ариэлой! И, громко рыдая, бросилась вон из галлереи.
Я и сейчас вижу эту сцену так ясно, будто она произошла вчера – Марья, сотрясаясь от рыданий, взлетает по невысокой лестнице, ведущей из галлереи наверх, на улицу, а я, как последняя дура, зачем-то бегу вслед за ней.
Мы выбежали на набережную, - Марья впереди, я в пяти метрах от нее, тщетно пытаясь ее догнать. К счастью, она мчалась хоть и быстро, но недалеко – с явным истерическим расчетом, чтобы выскочившие с вернисажа Синявский и Воронель успели заметить, в какое кафе она заскочила. Расчет был правильный – они заметили, и через минуту присоединились к нам, создав таким образом благодарную публику, необходимую для успеха готовящегося спектакля.