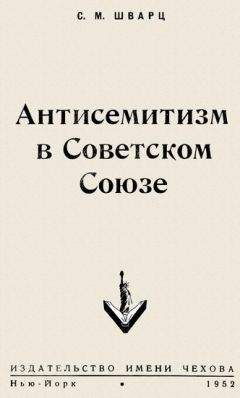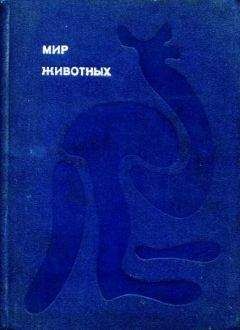Приехал в Россию Зиновьев, связавшись с тоже уже покойным философом и старым диссидентом (в то время обозревателем газеты "Правда пять") Феликсом Белелюбским. И обнаружил, что его в России никто не помнит и не знает. 20 лет прошло. Забыли.
Феликс Борисович обратился ко мне (я тогда исполнял обязанности заместителя главного редактора) - лично Зиновьева я, конечно, знать не мог, но хотя бы имел представление, кто это такой. Перво-наперво мы отправили за Зиновьевым в аэропорт "Шереметьево" редакционный автомобиль, встретили мало-мальски пристойно. Ф.Белелюбский подготовил для газеты большое интервью, которое было немедленно поставлено в номер.
В тот же вечер я провел с Зиновьевым часовое интервью на радио "Резонанс", а в ночном прямом эфире на Ren-TV с ним встретился В.Кондрашов.
Так Зиновьев вернулся на родину.
Слава богу, в последующие годы А.Зиновьев имел возможность общаться с широкой публикой, был замечен большой прессой. Правда, с запозданием на 20 лет, и эти годы не получилось компенсировать повышенным влиянием к этой большой личности на ее закате. Конечно, на восьмом десятке очень непросто восполнить то, чего был лишен на шестом и седьмом, в самом творческом расцвете. Больше мы с ним практически не общались, если не считать одновременного участия в каких-то круглых столах и т.п. Не было ни повода, ни особенной какой-то необходимости.
Анатолий Баранов
Помимо всего прочего, чехи получили ещё один повод для ненависти к русским. Эта волна ненависти была уловлена и прочувствована фибрами «русской» интеллигенции через все границы и кордоны: чехи стали популярны. В марте 69-го года на первенстве мира по хоккею сошлись чехи и советские. Чмошная интеллигентская придурня прилипла к телевизорам — болеть за чехов. Те победили, а после игры их капитан Голонка подъехал к советской сборной, взял клюшку наперевес, как автомат, и «pасстрелял» наших игроков. Это вызвало у изряднопорядочных какой-то катарсис.
Причём устраивавшиеся именно в качестве фрондёров, а то и прямых врагов. Это стало особого рода карьерой — о чём сам Зиновьев, впрочем, пишет с осторожностью, ибо неким боком сам мог быть отнесён к «этой линии».
Впоследствии тот же Дмитриевич взялся, к примеру, издавать позднего Лимонова — он купил у того за пять тысяч франков рукопись романа «Убийства часового», от которого отказались основные французские издательства, жаловавшие Лимонова исключительно в амплуа «эдички».
Например. В ЗВ действие происходит в городе Ибанске, в котором все жители носят фамилию «Ибанов». На русском «всё сразу понятно», но найти сколько-нибудь подходящий эквивалент на любом другом языке, да так, чтобы обозначить все аллюзии — начиная с самой распространённой русской фамилии, через литературный образ «города дураков», с косвенной отсылкой к Салтыкову-Щедрину («Ибанск» — явный город-побратим Глупова), и учитывая дополнительные смыслы известнейшего матерного глагола (например, включая значение «ибаться» как «тяжело и напрасно трудиться») — невозможно даже теоретически.
Здесь напрашивается цитата из Оруэлла. Сам Зиновьев Оруэлла презирал — но не за «мизантропию», а за дешёвое политиканство и лживость. Так, Оруэлл приписывал несуществующему «ангсоцу» и социализму в целом те милые свойства, которые он лично и сполна хлебнул в самом что ни на есть традиционном английском институте — в закрытой школе для мальчиков (о чём оставил душераздирающее эссе). Впрочем, то же самое делали и советские диссиденты, но не по злому умыслу, а по глупости.
Отдельная тема — Зиновьев и водка. Бывший алкоголик, он тонко чувствовал глубокую связь водки (именно водки) и коммунальности. В его рассуждениях на эту тему спиртное выступает как один из характерных механизмов самонастройки социальной машины — причём настройки достаточно тонкой. Эти изыскания (равно как и намётки исследований социальной роли алкоголиков в советском обществе) заслуживают внимания, но сейчас у нас нет возможности уделить этим вопросам сколько-нибудь ощутимое место.
Как могло возникнуть такое общество, Зиновьев тогда не очень понимал. Впоследствии, сформулировав концепцию сверхобщества, он нашёл ответ на этот вопрос — но к тому времени его исходная мысль существенно трансформировалась и в результате потеряла ту ясность, которая производила такое впечатление на его ранних читателей.
Это принимало клинические формы. Достаточно вспомнить болезненную брежневскую страсть к орденам и наградам, особенно зарубежным, чтобы понять, откуда здесь ноги растут. Это же, кстати, объясняет неадекватную реакцию «дорогого товарища» на зиновьевские наскоки. Гуманный правитель, почитав про себя «обидное», посмеялся бы и забыл, тиран — убил бы автора и тоже забыл. Для Брежнева главной проблемой было именно что пережевать обиду, как-то отработать её. Зиновьев знал, что говорил, когда в первом же своём выступлении на Западе заявил, что Советская власть пострадала от него больше, чем он от неё.
Распространённый в те времена эвфемизм для обозначения человека, подозреваемого в недостаточной лояльности к «лучшему на свете народу».
Впрочем, точные цифры нигде не приводились, а на прямые вопросы — сколько? — Зиновьев обычно говорил что-то невнятное. Вот характерное место из одного интервью: Корреспондент. Какие-то количественные показатели продаж Ваших произведений на Западе доступны? Зиновьев. Когда к 70-летнему юбилею пытались получить цифры — не удалось. Дело в том, что было крайне сложно контролировать и тираж, и какое по счету издание. Если бы издатели указывали точные тиражи, им пришлось бы платить гонорары мне и налоги, так что на Западе "нелегальщина" тоже вполне распространена. Тиражи точно указываются тогда, когда они на уровне миллионов и десятков миллионов, а такими тиражами выпускаются преимущественно книги, не имеющие научной и литературной ценности. Очень много было пиратских изданий, о которых я узнавал — если узнавал — постфактум. По официальным подсчетам, книги вышли больше чем на 20-ти языках.
Это, кстати, та самая грань, переход которой отличает «нормальную» власть от ненормальной: уничтожение негосударственных форм порядка, пресловутого «гражданского общества». Не присвоение их себе, не перепрограммирование, даже не попытка их огосударствления, а именно уничтожение.
Зато в умном, хорошо устроенном обществе действия власти, ответная самоорганизация и вторичное присвоение властью организационных форм происходит ювелирно, «тютелька в тютельку». Напрашивающийся пример — русская «община». Сейчас уже никто не сомневается, что первично она насаждалась сверху — в целях повышения «доходности чёрных людишек». Одновременно община была использована крестьянами как защитный механизм, «выгораживающий» самых бедных от «тягла» и т.п. Наконец, государство увидело в общине механизм социального контроля над крестьянством и постаралось его использовать в таком качестве… Но здесь мы уже выходим за рамки темы.
Кстати сказать: Зиновьев всегда относился к писаной версии истории как к чему-то крайне подозрительному. Познакомившись — уже в России — с трудами Фоменко, он восторженно их принял и называл их «подлинно научным» подходом к истории. (Кого-то, возможно, это шокирует: Фоменко сейчас изрядно дискредитирован. Некоторые, впрочем, считают Фоменко и собравшуюся вокруг него тусовку проектом по превентивной дискредитации любых копаний в хронологии и истории как таковой. Разумеется, такой ход мысли тоже запрещён, как «конспирологический»).
Зиновьев считал, что Запад, победив в Третьей Мировой, не просто уничтожит Россию и русских, но и сотрёт память о них и особенно об их достижениях. «Здесь ничего не было». Интересно, что некоторые люди понимали всё это «задолго до». Интересующихся можно отослать к роману Станислава Лема «Осмотр на месте», где описано как проектируемое западное будущее, так и судьба остатков Советского Союза.
В те времена я был студентом в солидном техническом вузе, где интересоваться «всякими такими делами» было как-то не принято. Тем не менее, несколько дней подряд в библиотеку стояла очередь — спрашивали номер «МН» с пресловутой статьёй. Всем хотелось видеть её своими глазами «и ещё дома рассказать». Я в ту очередь становиться поленился, но значимость момента ощутил вполне.