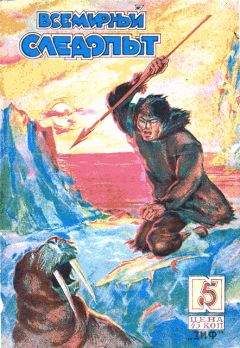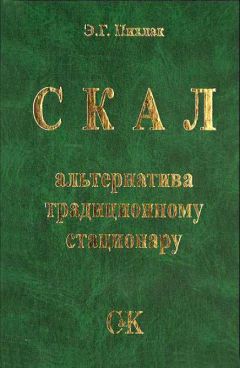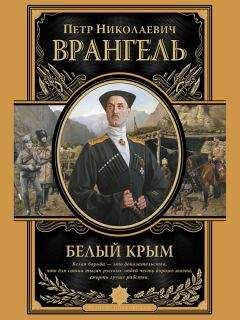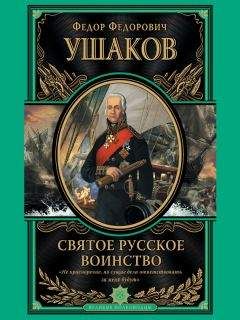— Крупный?
— Вьюн хороший, жи-ирный! Завтра утречкам принесу, поджарите…
— Знаменитая вещь, если поджарить! — облизнулся Степан Максимыч, отмахнул с потного от чая лба волосы, выпрямился и, смотря в лицо Кузьме Петровичу, неожиданно признался:
— А мы, Кузьма, куницу упустили!..
Кузьма Петрович, стоявший у двери, жадно шагнул к столу, сел и впился глазами в Степана Максимыча; на лице у него было и недоверие, и радость, и неодолимое желанье скорей узнать подробности.
— Не веришь? Ей-богу упустил! — повторил Степан Максимыч. — Да ку-ун какой! Старый, червонца четыре стоит!
Слово за словом он пересказал все перипетии нашей неудачной охоты; мой позорный промах смягчил, упирая на темноту, в которой мне пришлось стрелять. Я отметил, что в подробном рассказе своем Степан Максимыч не обмолвился ни одним словом, которое могло бы служить указанием места нашей охоты на куницу. Не опросил об этом и Кузьма Петрович. Следующий день подтвердил мое предположение: в рассказе о неудачливой нашей охоте Кузьму Петровича больше всего интересовал вопрос: где?
Обогнув пчельник, мы пробирались густым ольшанником к буграм, в ельник, где, по нашим рассчетам, непременно должны были быть русаки…
— Куна этого я все одно добуду, — упрямо говорил мне Степан Максимыч, шагая впереди меня и зорко присматриваясь к каждому следу. — Ежели бы не к вечеру вчера дело было, непременно нашел бы!.. Денька через два пойду и добуду. Кормится он в том месте. Сегодня бы пошел, да охота очень русаками с тобой побаловаться…
Я ни у кого не видел такой походки, как у Степана Максимыча. Он шагал «в разметку», выворачивая наружу носки ступней и почти не сгибая в коленях ног. Со стороны казалось — он идет медленно, но я знал но горькому опыту как трудно поспевать за ним. В лаптях, в толстых суконных онучах, густо перевитых оборками, его короткие ноги всегда казались мне литыми из чугуна. Расстояний для него не существовало, а его «версты» я всегда расценивал километров по пяти. В сумке с патронами у него всегда была краюха хлеба. Он ел на ходу. Пройдет километр-два, отломит небольшой кусочек и съест, через два-три — еще. «Чтоб время не терять и не отощать чтоб», — объяснял он…
В этот день охота сложилась для нас удачная: к полудню мы взяли трех русаков. Взяли бы наверное и еще, но на мое несчастье Степан Максимыч снова наткнулся на куний след и, мгновенно забыв о русаках, исчез в осиннике. Некоторое время до моего слуха доходил хруст веток под его шагами, шорохи раздвигаемых осинок, потом все смолкло. Я остался вдвоем с Султаном на просеке. Хотя Степан Максимыч и заверил меня, что он сейчас вернется, я решил его не ждать и медленно двинулся к дому. Султан бежал впереди, сразу сообразив, что работа кончена и в избушке его ждет еда. С большой неохотой подошел он ко мне, когда, заметив свежий след беляка, я начал подзывать его, ткнул мордой в отпечаток заячьих лап, посмотрел на меня, ткнул еще и опять посмотрел на меня, как бы говоря: «Стоит ли? Не лучше ли домой?» Настаивать я не стал: сетка с двумя русаками уже изрядно оттянула мои плечи. Мы двинулись дальше, но в следующий момент Султан метнулся с просеки в кусты и погнал. Я отчетливо увидел темное гибкое тело быстро ускользавшее от Султана к груше сосен, вправо от меня. И первая мысль была: «Куница!» Я побежал следом за Султаном. У сосняка он остановился и, подпрыгивая, начал лаять вверх, на одну из сосен. Сколько я ни пытался увидеть что-нибудь в густой зеленой хвое, я ничего не увидел, хотя и был уверен, что куница именно здесь. И боясь, что от меня одного она уйдет, закричал во всю мочь:
— Степа-а-ан, го-оп! Сте-па-а-ан, сю-да-а-а!..
Держа ружье наготове, я безрезультатно шарил глазами по верхушкам сосен и не переставал звать:
— Сте-па-ан, о-го-го-го-о!
И был несказанно удивлен, когда вместо Степана Максимыча, ко мне неслышно вдруг подошел Кузьма Петрович. За плечами у него было ружье, а за веревочным поясом топор. Я сразу догадался, что он все время крутился по нашим следам в надежде установить место, где мы нашли вчера куницу.
— Что кричишь? Ай нашел что? — спросил он, осматривая сосняк.
— Белка! — солгал я.
Кузьма Петрович еще раз подозрительно осмотрел сосняк и равнодушно проговорил:
— Белки тут много. Ты что ж, видал ее?
— Видел. Собака по земле гнала.
— По земле?! — переспроси Кузьма Петрович.
В это время я заметил на одной из сосенок беличье гнездо, «гаюшку», как называют его здесь охотники. От Степана Максимыча я знал, что куница часто скрывается в беличьих гнездах, и боясь, что Кузьма Петрович догадается в чем дело, я, не желая уступать ему честь открытия убежища куницы, сказал:
— Может быть это совсем и не белка, а куница?
Но Кузьма Петрович уже догадался. Я заметил это по быстрому воровскому взгляду, брошенному им сперва на гаюшку, потом на меня.
— Куницы здесь не должно быть! — проговорил он смиренным отеческим голосом и опять украдкой вскинул глаза к гаюшке.
— На всякий случай ты постучи по этой вот сосне топором, — предложил я. — Проверим!
— Да зря стучать; куницы тут не должна быть! — повторил Кузьма Петрович.
— Сте-па-а-ан, го-го-оп, сю-да-а!.. — закричал я.
Кузьма Петрович вынул из-за пояса топор, подошел к сосне, но не к той, на которой была гаюшка, и начал рубить.
— Не эту! — поправил я. — Вон ту, с гнездом!
Словно на пытку его толкали, неохотно подошел Кузьма Петрович к сосне с гаюшкой и только стукнул раза два топором, как из гаюшки выкинулась великолепная куница, перескочила на другую сосну и затаилась в зеленой гуще хвои. Я видел ее совершенно отчетливо в момент прыжка, но выстрелить не успел. Держа ружье у плеча, пытался разыскать ее снова и не мог. Чуя смертельную опасность, куница затаилась. Я отошел в сторону на несколько шагов, чтобы увеличить таким образом поле наблюдения, и лишь только выбрал позицию, притаившийся хищник не выдержал и огромным чудесным прыжком хотел переброситься на следующее дерево. Мой выстрел оборвал прыжок. Убитая наповал куница упала в трех шагах от меня.
Завистливо рассматривал ее Кузьма Петрович и, передавая мне, сказал;
— Самец, кун. Ореховый кун.
Ореховые куницы, по его словам, были самые ценные.
На просеке к нам присоединился Степан Максимыч.
— В кого стреляли? — спросил он, здороваясь с Кузьмой Петровичем и подозрительно косясь на него.
Я вынул из кармана куницу.
Степан Максимыч как стоял, так тут же сел на снег и стянул с головы шапку. Я никогда не видел так быстро поглупевшего лица. Брови у него ушли вверх, набирая на лоб морщинки; рот полураскрылся, покруглели глаза — бессмысленные, пустые, ничего не понимающие в этой жизни, где куница сама лезет в руки охотнику-новичку, в то время как завзятые охотники попусту тратят дни и целые недели в поисках за ней…
— Ну что ж это такое, ты подумай только, — рассуждал он с Кузьмой Петровичем, идя сзади меня. — Тут, можно сказать, не жалея себя, ходишь-ходишь за ней, а он вот только приехал — чик, и готово! Ах, ты, история-то какая, прямо даже чудно!
— Я то с топором был; стукнул, она тут и есть! — отвечал Кузьма Петрович и в третий раз начинал свой рассказ о том, как услыхал мой крик, как подошел, как сразу увидел гаюшку, и из его рассказа выходило так, что если бы не он — куницы мне не видать как своих ушей.
Я слушал и решал неразрешимый вопрос: кому из них отдать куницу?
На заводской трубе.
Рассказ М. К.
Покинутый завод стоял на отлогом, ветренном и солнечном склоне длинного сутулого холма. Узкая лента зарастающей ковылем булыжной дороги взбегала от шоссе к приземистым баракам сушилок. Дощатые крыши сушилок чернели дырами, навесы обваливались. Изрезанные лопатами края глубокого каррьера сползли и обрушились. Рыхлые осыпи черной земли прикрыли светлевшие на дне ямы липкие пласты голубоватой глины. Лопух и крапива лохматили склоны. Дорога обогнула каррьер и заметно круче поползла вверх.
Тяжело ступая, Петр Спирин вытер потный лоб и хмуро сказал:
— Пропал заводишко-то!
С трудом поспевающий за ним, запыхавшийся от жары и подъема, человек в кургузом пиджачке горестно и утвердительно закивал косматой головой и со вздохом проговорил:
— Пропал, паря… Это ты верно.
— А кто виноват? — почти злобно спросил Спирин. — Сохранить надо было. Себе же, небось. Эх, вы!..
Человек в пиджаке негодующе взмахнул рукой.
— Ты, товарищ дорогой, не агитируй, не агитируй! — хитро прищурясь, заговорил он. — Мы и сами понимаем, что и как. А только тут нельзя было сохранить…
— Это почему же нельзя?
— А потому. Ты послушай сначала.
Ловко загородившись от ветра, рассказчик зажег погасшую было трубку и, глубоко затягиваясь, начал: