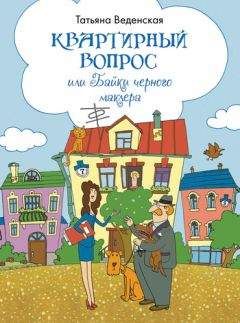Я, например, недавно приобрела довольно травматический опыт, когда моя квартирная хозяйка, которой я год доказывала всяческую опрятность, пунктуальность и аккуратность платежей, задалась вполне справедливым вопросом о повышении арендной платы, но почему-то постеснялась обратиться ко мне напрямую, а внезапно привела почтенную женщину-риэлтора лет пятидесяти, которая и объявила мне щекотливую новость. При этом она слупила с меня половину новой арендной платы за то, что целый час переписывала мои паспортные данные в бланк договора, а удовлетворенно пересчитав тысячные купюры, торжественно благословила меня на дальнейшее проживание в помещении: «Я вам так скажу, как всем своим клиентам говорю: мир этому дому». Впечатление это произвело на меня примерно такое, как если бы сутенер, запихивая в карман бабки, перекрестил проститутку с клиентом: «А теперь, дети мои, идите и будьте счастливы».
Параллели между публичным домом и сдаваемой внаем квартирой бесконечно соблазнительны. Однажды приятель, намеревавшийся продать мне свою квартиру, привел меня на смотрины жилья. На кухонном столе рядом со стереомагнитолой и бутылкой виски беззастенчиво возвышались два фаллоимитатора: хату снимали на паях несколько джентльменов для удобства своей насыщенной личной жизни. «Там у меня семья, а тут у меня - отдых», - сказал мне потом один из съемщиков. Но даже и без очевидных признаков разврата в любой съемной квартире, даже самой шикарной и ухоженной, неизбежно чувствуется запашок борделя. Иногда это ощущение совершенно необъяснимо: то ли зубные щетки в ванной стоят как-то не так, как в приличном доме, то ли книжки на полках странно сочетаются, но во всем сквозит специфическая энергетика квартиры легкого поведения, у которой нет моральных принципов, внутреннего стержня в лице постоянного хозяина и которая впитывает слишком много разнообразных человеческих эманаций самого беспокойного, нервического толка.
Впрочем, возможно, это личные субъективные впечатления, обусловленные особенностями тех съемных квартир, в которых мне доводилось бывать, но из-за них меня долгое время пугала сама мысль о том, что и я могу сделаться нанимателем чужого жилья. Сейчас я уже почти жалею, что в ранней молодости, когда завелись первые деньги, на которые при желании можно было отселиться от мамы и таким образом нормализовать с ней отношения, я пожадничала и побоялась пуститься в скитания по съемным квартирам. Можно долго спорить, нужен ли человеку такой опыт, если есть возможность его не иметь: все-таки он сопровождается букетом сомнительных прелестей, начиная от риска быть цинично облапошенным и попасть на бабло и заканчивая милейшей хозяйкой, которая имеет обыкновение без предупредительного звонка вваливаться на чай с конфетами и разговорами за жизнь. Но если абстрагироваться от массы неприятных мелочей и взглянуть шире, то съемная квартира - это всегда возможность пожить какой-то параллельной, не своей, двойной жизнью. Мне кажется, что человек, никогда не снимавший квартиру, чего-то все-таки недопонимает о себе и мироустройстве.
Начав уже в довольно взрослом возрасте снимать сначала дачу, а потом квартиру, я неожиданно обнаружила, что, брезгуя съемом как нерациональной тратой денег, я долгое время лишала себя такого занятного, хотя на чей-то взгляд, может, и парадоксального кайфа, которым сопровождается обживание территории, на которой еще не остыли следы враждебного, в общем-то, присутствия посторонних людей: еще вчера на этой бельевой веревке сохли заштопанные носки маляра-таджика, а эта вытяжка над плитой еще хранит ароматы пирожков с котятами, которые жарила на машинном масле неопрятная толстуха в бигудях. И вот все эти следы прежних обитателей, осквернивших место, которое ты теперь облюбовал для себя, предстоит стереть и нанести вместо них свои - застолбить, пометить свой участок, вымести в дальний угол сознания, как оставленный прежними жильцами мусор, мысль, что никакой этот участок на самом деле не твой и твоим никогда не будет. Эффективнее всего при этом абстрагироваться от самого понятия «собственности» как условного, относительного и зыбкого - это очень русское, очень опасное и очень приятное состояние ума. Оно накрывает, когда между тобой и съемной квартирой (которая ведь в принципе может и не принять тебя, отторгнуть, так что ты при всем желании не сможешь ни спать в ней толком, ни есть) проскакивает искра взаимной симпатии, происходит «контакт», - и это состояние похоже на действие тех коварных наркотиков, которые дают страшное, но захватывающее ощущение, что твое сознание, на которое ты так полагался, абсолютно тебе не принадлежит.
С квартирой, на которую у тебя есть свидетельство с печатью, ты хочешь не хочешь, а идентифицируешься, это как бы часть твоей личности, продолжение тебя самого, в том же примерно смысле, в котором называют «второй половиной» жену, пропечатанную у тебя в паспорте. Квартира, где тебя вчера еще и в помине не было и запросто может не быть уже завтра, - это место, в котором ты можешь раствориться, почувствовать себя несуществующим, растождествиться со своим «Я» как с чем-то прочным, незыблемым, неизменным, и таким образом приобрести дополнительную степень свободы. Хотя, наверное, есть масса людей, которым таких острых ощущений и даром не надо, а тем более за тысячу у.е. в месяц. Между тем по количеству вырабатываемых эндорфинов процесс обживания снятой квартиры сопоставим с состоянием самой пылкой влюбленности, которая тоже предполагает пошаговое превращение прежде чужого, постороннего человека в своего, родимого. Все это, разумеется, чревато тем, что зайдя в этом «освоении» достаточно далеко и уже самонадеянно начав считать этот упоительный процесс необратимым, можно испытать травматический шок от того, как стремительно он может пойти вспять: хозяйский сын встретил девушку своей мечты и скоропостижно женится, хозяйская дочка отчаялась сделать карьеру в Голливуде и благоразумно возвращается на родину, бывший хозяйский муж претендует на свою долю недвижимости, и вот вы уже не знаете, к кому бы из друзей напроситься переночевать и куда вывозить накопившиеся книжки. Из-за этого отсутствия уверенности в завтрашнем дне жизнь в съемной квартире меняет человека - и снаружи, накладывая отпечаток на его бытовые привычки, но главное, изнутри, не только ослабляя собственническую жилку, но и закаляя характер, воспитывая в нем самурайскую привычку быть готовым в любой момент к чему угодно и ни к чему не привязываться.
Все это, конечно, образ жизни и мировосприятия сильно на любителя, но человеку, трезво рассудившему, что на свою жилплощадь у него вряд ли получится когда-либо заработать, ничего не остается, кроме как романтизировать свою бесприютность и по мере сил и воображения отыскать в ней какую-то красоту. Достойный пример для подражания в этом смысле являет, например, совершенно оголтелый фанат своего фамильного гнезда В. В. Набоков, с которым мало кто сравнится в умении воспевать семейную недвижимость как некий утраченный рай. По издевательской иронии судьбы Владимир Владимирович всю жизнь от этой своей гипертрофированной привязанности к родному жилищу освобождался, изливая ее в пронзительных строках, и преодолел ее в общем довольно успешно. Из хронической, неизлечимой эмигрантской бездомности он сумел извлечь эстетическую ценность, вступая со своими многочисленными съемными каморками в довольно романтические отношения и явно относясь к ним как к одушевленным существам.
Трудно представить, чтобы мизантропствующий лирический герой Набокова мог посвятить какому-нибудь человеку такие трогательные строки, которые он обращает к покидаемой им комнате во второй главе «Дара»: «Случалось ли тебе, читатель, испытывать тонкую грусть расставания с нелюбимой обителью? Не разрывается сердце, как при прощании с предметами, милыми нам. Увлажненный взор не блуждает округ, удерживая слезу, точно желал бы в ней унести дрожащий отсвет покидаемого места; но в лучшем уголку души мы чувствуем жалость к вещам, которых собой не оживили, едва замечали, и вот покидаем навеки. Этот мертвый уже инвентарь не воскреснет потом в памяти: не пойдет вслед за нами постель, неся самое себя; отражение в зеркальном шкапу не восстанет из своего гроба; один только вид в окне ненадолго пребудет, как вделанная в крест выцветшая фотография аккуратно подстриженного, не мигающего, господина в крахмальном воротничке. Я бы тебе сказал прощай, но ты бы даже не услышала моего прощания». Самое удивительное тут, с каким наслаждением эгоцентричный писатель буквально-таки хоронит оставляемую им жилплощадь (с трудом удерживаясь от восклицания: «Так не доставайся же никому!») и ставит на ней крест, не допуская и мысли, что после такого уникального постояльца, как он, в ней может продолжаться еще какая-то жизнь.